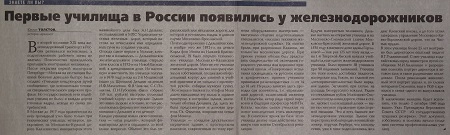История рода Фон Мекк
O. de Kort.
Bijzondere vriendschap: Pjotr Tsjaikovski en Nadezjda von Meck
(De Klank, nr. 4, 2017)
Olga de Kort. Bijzondere vriendschap: Pjotr Tsjaikovski en Nadezjda von Meck (gepubliceerd in de Klank, nr. 4, 2017)
Een geschiedenis van een bijzondere vriendschap, zo wordt de briefwisseling van Pjotr Tsjaikovski en zijn mecenas Nadezjda von Meck wel eens genoemd. Aan de jarenlange financiële steun van Von Meck was slechts een voorwaarde gebonden: de componist en zijn weldoenster zouden elkaar nooit in levende lijve ontmoeten.
Veertien jaar lang communiceerden Tsjaikovski en Von Meck per post, en als ze elkaar toevallig toch in een concertzaal tegenkwamen, lieten ze nooit merken dat ze voor elkaar meer dan vreemden waren. Zelfs toen het huwelijk van Nadezjda’s zoon Nikolaj en Tsjaikovski’s nichtje Anna de twee families met elkaar verbond, schitterde de moeder van de bruidegom door afwezigheid en gaf ze de voorkeur om Tsjaikovski’s zus slechts schriftelijk te leren kennen.
In hun meer dan 1200 brieven bespraken Pjotr en Nadezjda alles met elkaar: het weer en de oogst, huishoudelijke beslommeringen, reizen en ziektes, dood, roem, geldnood en het onbegrip van de omgeving. En natuurlijk de muziek, want al in haar eerste brief bekende Nadezjda hoeveel ze van Tsjaikovski’s muziek hield. Ze maakte haar leven draaglijker en blijer.
 Beste vriend en engelbewaarder
Beste vriend en engelbewaarder
In deze veertien jaar durende dialoog was Nadezjda von Meck een toonbeeld van luisteraar en raadgever. Een rol die haar eigenlijk op het lijf was geschreven. Ze was energiek, zakelijk en zelfstandig, maar kon, volgens Pjotrs broer Modest Tsjaikovski, ook hartstochtelijk en ‘diepvoelend’ zijn.
Op het moment van haar eerste brief aan Tsjaikovski in december 1876 was zij 45 jaar en sinds kort een puissant rijke weduwe van de militair- en spoorwegingenieur Karl von Meck (1821-1876). Naar verluidt liet hij haar een fabelachtig vermogen van 20 miljoen roebel na, samen met onroerend goed en spoorwegaandelen. Uit hun 28-jarige huwelijk werden achttien kinderen geboren, van wie er elf in leven bleven.
Nadezjda speelde goed piano, was belezen en geïnteresseerd in kunst. Ze steunde financieel Nikolaj Rubinstein, het Russische Muzikale genootschap en pianostudenten aan het Conservatorium van Moskou. Voor haar was een musicus ‘de hoogste creatie van de natuur’, zoals ze het in haar brief aan Tsjaikovski op 7 maart 1877 poëtisch uitdrukte. De muziek van haar ‘muzikale god’ Tsjaikovski gaf haar toegang tot ‘de wereld van gevoelens, verlangen en wensen, die het leven niet in staat was te verwezenlijken’. Daarin herkende ze ‘genot en droefheid’, die herinnerden aan ‘hoop, verwachtingen en geluk, die het leven zelf niet gaf’.
Ze was volkomen zichzelf in haar brieven aan Tsjaikovski: recht door zee in haar uitspraken en bezitterig in alles wat ze aanraakte. Ze schreef met plezier over haar huizen, haar treinwagons, haar vertegenwoordigers, haar parken en zelfs de crème van haar eigen melk. Heel snel begon ze ook de componist als een van haar bezittingen te beschouwen. Het liefst zou ze graag alles voor hem willen regelen: van zijn verblijf op haar landgoederen en in vakantiehuizen tot zijn reizen en concertkaartjes.
Nadezjda geloofde heilig in de kracht van geld. Haar dochters kregen bij hun huwelijken een miljoen mee, maar geluk was niet te koop, dat wist ze uit haar eigen ervaring. Tot het eind van haar leven moest zij iedereen uit de brand helpen, en de schulden van haar zonen, schoonzonen en kleinkinderen betalen. Was ze zelf wel gelukkig? Uiterlijk heel streng en gereserveerd, ze had een enorm plichtsgevoel, en was gewend om zichzelf altijd in dienst van haar man en familie te stellen. Haar verlangen naar het ideaal vond ze in Tsjaikovski en zijn muziek, en prees zich gelukkig al met de kans om haar ideaal te dienen.
Vanaf 1877 betaalde ze Tsjaikovski jaarlijks 6.000 roebel, genoeg om hem van de materiële onafhankelijkheid en het comfortabele leven te verzekeren. De Franse schrijver Henri Troyat merkte minachtend op dat het haar eigen keuze was om in plaats van muze slechts bankier te worden. Soms voelde Nadezjda zich wel dergelijk de muze, en verheugde ze zich op het horen van de aan haar opgedragen maar helaas verloren gegane Treurmars (1877) en de Eerste Orkestsuite. Ze was op de hoogte van alles waar de componist mee bezig was en volgde met veel belangstelling de vorderingen van de Vierde Symfonie die Tsjaikovski met haar uitvoerig besprak. Ze weigerde echter hun vriendschap prijs te geven toen hij besloot om haar naam op de titelpagina te plaatsen. De uiteindelijke symfonie-opdracht luidde: ‘aan mijn beste vriend”.
 Dagboek van een componist
Dagboek van een componist
Tsjaikovski was altijd al een makkelijke schrijver, getuige zijn meer dan 6.000 bewaard gebleven brieven aan diverse correspondenten. In het eerste jaar van hun briefwisseling stuurde hij Nadezjda meteen al 51 brieven, terwijl zij er slechts 24 terugschreef. Heel snel werd het zijn geestelijke behoefte om zijn mecenas over alles bijna dagelijks, en soms enkele keer per dag, te berichten.
Toen Nadezjda hem voor het eerst benaderde met het verzoek om de geautoriseerde transcripties voor viool en piano te maken, was de 35-jarige Tsjaikovski al vrij bekend componist van liederen, drie kwartetten, het Eerste Pianoconcert en drie symfonieën. Haar materiële steun gaf hem de kans om het leven van onafhankelijk kunstenaar te leiden. Ineens kreeg hij de keuzevrijheid in alles, van zijn Europese reizen tot het indelen en invullen van werkuren. Niet voor niets noemde Pjotr zijn weldoenster ‘de immer gevulde hand der voorzienigheid’. Dankzij Nadezjda von Meck kon hij ‘leven en werken’. Het laatste vond hij zelfs ‘meer waardevol dat het leven zelf’.
Een tijdsdocument van 14 jaar
Met het beëindigen van hun briefwisseling in 1891 kwam ook het eind aan het ‘componistenpensioen’, zoals Tsjaikovski zijn toelage schertsend omschreef. Het geld had hij al niet meer nodig, maar het verkillen van hun correspondentie deed hem wel pijn. De reden van hun breuk weet niemand. Nadezjda was moe en ziek, Tsjaikovski kampte met emotionele uitputting door het verlies van vrienden en familieleden. Hij kreeg het gevoel dat zijn penvriendin veel te weinig aandacht had voor zijn eenzaamheid en moedeloosheid. Toen Tsjaikovski twee jaar later overleed, had Nadezjda, die inmiddels al 15 jaar aan tuberculose leed, slechts 2,5 maand te leven.
De brieven uit 1876-1890 zijn bijna volledig bewaard gebleven, ondanks Nadezjda’s vertrouwen dat de componist haar brieven, zoals het een gentleman betaamt, zou vernietigen. Samen vormt de correspondentie van Pjotr Tsjaikovski (1840-1893) en Nadezjda von Meck (1831-1894) een uniek tijdsdocument en Tsjaikovski’s autobiografie, geschreven vanuit zijn eigen perspectief en gezien door zijn ogen.
Nederlandse Nadezjda Nederland heeft zijn eigen connectie met Tsjaikovski’s mecenas. Lydia, een van de zes dochters van Nadezjda von Meck, trouwde met officier Friedrich Eduard von Lövis of Menar. Met hun tien kinderen woonden ze in Riga. De echtgenoot van Lydia’s dochter Helene werd de Nederlandse baron Willem François Emile van der Borch tot Verwolde. Ze verhuisde naar het kasteel Vorden, waar later ook haar dochter Johanna Maria en kleindochter Elisabeth Joanna Libertine werden geboren.
Nederland heeft zijn eigen connectie met Tsjaikovski’s mecenas. Lydia, een van de zes dochters van Nadezjda von Meck, trouwde met officier Friedrich Eduard von Lövis of Menar. Met hun tien kinderen woonden ze in Riga. De echtgenoot van Lydia’s dochter Helene werd de Nederlandse baron Willem François Emile van der Borch tot Verwolde. Ze verhuisde naar het kasteel Vorden, waar later ook haar dochter Johanna Maria en kleindochter Elisabeth Joanna Libertine werden geboren.
De achterkleindochter van Lydia, kunstfotografe Nadja Willems (Nadjeschda Raadsen-Willems, 1971) uit Soest, is vernoemd naar haar betovergrootmoeder. Gefascineerd door de geschiedenis van haar Russische familie en de rol van Nadezjda von Meck in het leven van Tsjaikovski, maakte ze haar eigen hommage aan haar beroemde naamgenote. De serie van twaalf portretten, in december 2006 geëxposeerd in Galerie Hilversum, is geïnspireerd op de Russische 19de-eeuwse schilderijen. Om de tijdgeest en ‘het gevoel van het originele schilderij’ weer te geven, kleedde de fotografe haar modellen in tweedehands kleding, die ze samen met diverse sieraden in kringloopwinkels bij elkaar verzameld had. Een detail verbindt echter alle foto’s: een spijkerbroek die alle dames als vrijheidssymbool aan hebben. Daarmee benadrukt Nadja haar hoop (want Nadezjda in het Russisch betekent ‘hoop’) op ‘een nieuw Rusland waarin mensen zichzelf mogen zijn.’ De ‘gecreëerde beelden’ van Nadja Willems zijn te zien op haar website Nadja.(www.nadja.nl). ©Olga de Kort, 2017.
К своей родословной Петр Ильич Чайковский относился иронично. Он не много знал о своих предках: "В точности решительно не знаю, кто были мои предки (со стороны отца), - писал он. - Мне известно, что мой дед был врач и жил в Вятской губернии, а засим мое генеалогическое древо теряется во мраке неизвестности". Центральный государственный архив Удмуртской республики хранит документы, позволяющие проследить незаурядную родословную композитора. Два города - Воткинск и Глазов - тесно связаны с жизнью семьи Чайковских.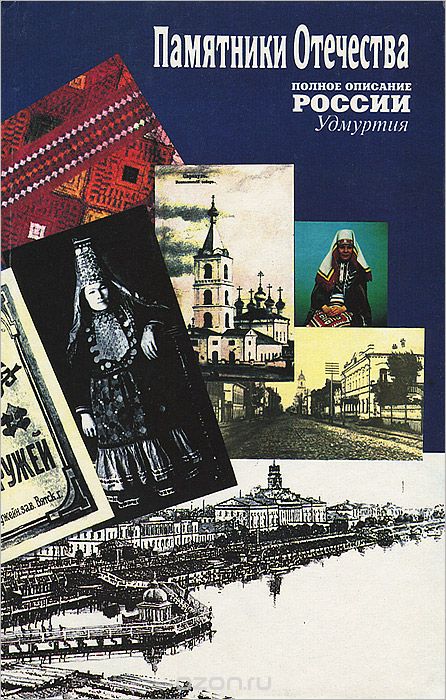
Дед композитора Петр Федорович Чайковский родился в 1745 году в селе Николаевка Полтавской губернии в семье украинского казака Федора Чайки. Он учился в Киевской академии, а в 1769 году был переведен для учебы в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпиталь. После окончания курса Петр Федорович в чине подлекаря направился в действующую армию. Участвовал он в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, был произведен в лекари. В 1777 году вместе с полком, в котором служил, Чайковский переводится в Пермь, где вышел в отставку. Первым местом его статской службы стал город Кунгур, где несколько лет он исполнял должность городового лекаря. В начале 1782 года Петра Федоровича переводят на эту же должность в губернский город Вятку с чином штаб-лекаря.
В 1785 году по указу Екатерины II в России составлялась дворянская книга. В Вятском крае "столбовых" дворян было мало и в родословную книгу вносились и гражданские чиновники. Согласно Табеля о рангах Петра I чины не ниже 8-го класса получали права дворянства. В итоге, в Вятскую дворянскую книгу было записано 127 человек, среди них и Петр Федорович Чайковский.
В этом же году штаб-лекаря Чайковского перевели "на докторскую вакансию в город Слободской". Вскоре П.Ф.Чайковский оставляет медицину и становится дворянским заседателем Вятского Верхнего Земского и Совестного судов. В январе 1796 года Петра Федоровича назначают на более ответственную должность - городничего города Слободского. Здесь же в Слободском в семье Чайковских родился сын Илья, отец великого композитора...
Но послужить долго в Слободском Петру Федоровичу не пришлось. Меньше чем через год его назначили городничим уездного города Глазова Вятской губернии, о чем в журнале заседаний Глазовской нижней расправы сделана следующая запись: "Слушали указы из Вятского наместнического правления.
1. От 12 сего ноября под №18478, коим с сего дня дано знать, что на имевшуюся в городе Глазове городничаго ваканцию Правительствующим Сенатом определен титулярный советник Петр Чайковский, коему велено явиться к той должности. Приказали о получении оного указа в наместническое правление отрапортовать..."
А 1 декабря 1796 года новый городничий уже принял городскую казну.
Первое упоминание о деревне Глазово встречается в Переписной книге Каринской волости Хлыновского уезда за 1768 год. Указом Сената от 11 сентября 1780 года "Об учреждении Вятского наместничества из 13 уездов" был организован Глазовский уезд и село Глазово переименовано в город. Что представлял собой новоиспеченный город, видно из следующей характеристики: "Глазов, при реке Чепце, переименован из вотского села, в нем была одна деревянная церковь, жители занимались хлебопашеством, кроме того, они сплавляли хлеб в низовые города, а также в Слободской и Соликамский уезды и на заводы Омутнинский, Залазнинский и Пудемский..." По ,, Ведомости о числе жителей в городах и округах Вятского наместничества" за 1782 год в Глазове числилось 257 жителей, в том числе: купцов - 17, мещан - 1, черносошных крестьян - 237, дворовых людей - 1. В действительности жителей было немного больше, так как в "Ведомости" не учтены дворяне, духовенство и чиновники. Городок был мал, убог, утопал зимой в снегу, летом - в грязи. Даже в самом конце XIX века отбывавший в Глазове ссылку писатель В.Г.Короленко так отзывался о нем: "Самый город выходит ненастоящий, и жизнь его как-будто призрачная, чего-то ожидающая "...
Итак, дед композитора стал городничим "ненастоящего" города.
В исповедных росписях Вознесенской церкви за 1797 год появилась запись о семье Чайковских.
Петр Федорович был женат на Анастасии Степановне Посоховой, дочери подпоручика Степана Посохова, погибшего при защите Кунгура от нападения одного из пугачевских отрядов. Ну, чем не "капитанская дочка"? В Глазов Чайковские приехали большой семьей - семеро детей. Восьмой ребенок - дочь Олимпиада родилась уже в Глазове в 1801 году.
Семья городничего богатой не была. Имели Чайковские в собственности деревянный дом и четырех дворовых людей. Жили на жалованье.
В фондах Глазовской нижней расправы, Глазовского уездного казначейства и уездного суда сохранилось множество документов, свидетельствующих о разнообразии обязанностей городничего: пополнение городской казны и ее отправка под охраной, покупка фуража, обеспечение продовольствием и его сохранность, рассмотрение жалоб и проступков чиновников, исполнение указов Сената, забота о содержании штатной команды.
Из архивных документов видно, что П.Ф.Чайковский был человеком хозяйственным, аккуратным, в деньгах соблюдал осторожность и честность, жульническим проделкам, пьянству и кражам "не потворствовал". В своем донесении в Глазовское уездное казначейство от 7 апреля 1799 года городничий пишет: "Оное казначейство приписывает, что якобы к хранению денежной казны часто отряжается караул из солдат весьма слабых, увечных и престарелых. Оному казначейству надо знать, что караул из увечных людей к денежной казне никогда употребляем не был, ибо я и без упрекания уездного начальства, имею ввиду ... главного начальства, строжайшее повеление, относящееся до сбережения государственной казны, не только днем, но и в ночное время дозираю сам хождением по караулам дозором... За неимением довольного числа молодых иногда и престарелые, но люди благонадежные, а не увечные ... и оное казначейство должно требовать только то, что долг службы требует и от упрекательства воздержаться..." Из данного документа видно, что Петр Федорович перед начальством не заискивал. Подобного честного отношения к делу требовал и от подчиненных, к обману и несправедливости был нетерпим.
Добрый след оставил П.Ф.Чайковский в истории Глазова. При нем в городе была открыта ратуша, построена первая больница на пятнадцать коек, осуществлена детальная разметка площадей, улиц и кварталов под руководством первого вятского губернского архитектора Ф.М.Рослякова.
В 1812 году Вятская губерния формировала добровольческие полки для защиты от неприятеля. Среди прочих жертвовавших денежные средства "на обмундирование рекрут, на обоз, упряжь и лошадей" значится и глазовский городничий Чайковский, пожертвовавший немалую для простого чиновника сумму - 100 рублей.
К своим дворовым Чайковский относился как к близким людям. Сыновья и дочери городничего не раз бывали восприемниками при крещении детей дворовых, а Петр Федорович и Анастасия Степановна - поручителями при бракосочетаниях. Семья Чайковских старалась дать детям своих крепостных приличное образование. Всего Петр Федорович добился своим трудом, терпел и нужду, и обиды, оставался честен на службе и скромен в жизни. Умер он в 1818 году и был похоронен в Глазове. В метрической книге Преображенского собора имеется следующая запись: "Сентябрь, 18, Города Глазова городничий коллежский советник Петр Федоров сын Чайковский, 73 лет, натурально. Исповедовал и приобщил протоиерей Иоанн. Сего отпевал протоиерей со братиею соборной".
Дети П.Ф.Чайковского получили превосходное по тем меркам образование. Все они увлекались музыкой. Две дочери П.Ф.Чайковского, тетки композитора, жили в Ижевском Заводе. Екатерина в 1805 году вышла замуж за помощника управителя Ижевской заводской конторы поручика В.П.Широкшина, а Александра - в 1810 году за титулярного советника И.Ф.Евреинова. Дома их находились в Нагорной части поселка на улице Куренной (ныне ул. Красная). Последний из сыновей городничего Чайковского Илья, отец композитора, после окончания Вятского двухклассного училища тринадцатилетним мальчиком был отдан на Ижевский завод, где стал постигать азы заводского дела. Сначала он работал копиистом под непосредственным руководством начальника Гороблагодатских и Камских заводов А.Ф.Дерябина.
В фонде Ижевского завода сохранилась опись к чертежам за 1809 год с подписью А.Ф.Дерябина, В конце документа имеется отметка: "В копии читал унтершихтмейстер Чайковский". Жил Илья Петрович в Ижевске у сестры Екатерины. В мае 1810 года в поселке случился большой пожар, уничтоживший почти все дома в Нагорной части. В списках погорельцев числятся Широкшины и Евреиновы. Из документов следует, что после пожара семья Широкшиных, а с ними и Илья Петрович (ему было в то время пятнадцать лет) переехала в Воткинск. Сохранились документы, подтверждающие, что Илья Петрович работал на Воткинском заводе до своего отъезда летом 1811 года в Петербург в Горный кадетский корпус.
Вернулся Илья Петрович в родной Вятский край только через четверть века, будучи уже крупным специалистом в горном деле. В январе 1837 года его назначают горным начальником Камско-Воткинского завода.
Одиннадцатилетняя служба в Воткинске - наиболее плодотворный период в жизни И.П.Чайковского. Он был незаурядным инженером, способным администратором, смело проводил в жизнь новые научные и технические идеи. При нем на Камско-Воткинском заводе был введен раньше, чем на других заводах Урала, пудлинговый способ получения металла, открылась судостроительная верфь, и завод перешел от чистой металлургии к машиностроению.
По воспоминаниям современников, Илья Петрович отличался необычайной чувствительностью и мягкостью характера. М.И.Чайковский писал о нем: "Доброта или, вернее, любвеобильность составляла одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он совершенно одинаково верил в людей и любил их". В начале 1848 года по болезни И.П.Чайковский был вынужден уйти в отставку с должности горного начальника Камско-Воткинского завода.
В 1848 году Чайковские навсегда покинули Воткинский завод.
Н.Г. Пушкарева,
зам. директора ЦГА УР
Опубликовано в альманахе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры "Памятники Отечества", 1995, №№1-2, с.143
Родословная семьи Чайковских в биографиях
Опанас (Афанасий) Чайка
Федор Афанасьевич Чайка (ок. 1695–1767)
Пётр Фёдорович Чайковский (Чайка)(1745–1818)
Андрей Михайлович Ассиер (1779–1830-ые)
Илья Петрович Чайковский (20/31.07.1795–9/21.01.1880)
Александра Андреевна Чайковская (Aссиер) (30.07/11.08.1812–13/25.06.1854)
Елизавета Михайловна Чайковская (Липпорт, по первому мужу, урожд. Александрова) (1829–1910)
Николай Ильич Чайковский (9/21.05.1838–21.11/04.12.1911)
Ипполит Ильич Чайковский (10/22.04.1843–1927)
Анатолий Ильич Чайковский (01/13.05.1850–20.01/02.02.1915)
Модест Ильич Чайковский (01/13.05.1850–2/15.01.1916)
Александра Ильинична Чайковская (Давыдова)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Опанас (Афанасий) Чайка
Прапрадед композитора по отцовской линии. Умер от ран после Полтавской битвы в 1709 г.
Федор Афанасьевич Чайка (ок. 1695–1767)
Прадед композитора по отцовской линии. Родился в селе Николаевка, под Полтавой. Украинский казак Омельницкой сотни Миргородского полка, ходил с Петром Великим под Полтаву, участвовал в Полтавской битве. Был женат на Анне (1717–?), так же известной как "Чайчиха". У них было пятеро мальчиков:
Данило (р. 1738)
Петр (р. 1745), дед композитора
Михайло (р. 1748);
Матвей (р. 1750);
Алексей (род. 1760).
Умер в Полтаве в чине сотника от ран, оставив двух сирот.
Пётр Фёдорович Чайковский (Чайка)(1745–1818)
Дед композитора по отцовской линии. Чайковский – семинарское имя. Родился в селе Николаевка, Полтавский полк, (ныне Фрунзовка, Полтавская область). После семинарии обучался в Киевской академии. Решив посвятить себя медицине, врачебное искусство постигал с 1769 г. в Санкт-Петербурге, в военно-сухопутном госпитале: с 15 июня 1769 г. находился «в службе ея Императорского Величества» учеником при генеральном госпитале. После окончания курса обучения в чине помощника врача был направлен в действующую армию. Участвовал в русско-турецкой войне 1768–1774 годов: с 26 марта 1770 года – подлекарем, 15 ноября 1772 г. – лекарем. По окончании войны, в 1776 г., определен городовым лекарем, занимался медицинской практикой: сначала в Кунгуре (Пермский край), потом в Вятке.
В Вятское наместническое правление переведён, по своему прошению, указом императрицы Екатерины II 14 марта 1782 г. из Кунгура (Пермское наместничество) с жалованьем 140 рублей в год. Приложенные к указу аттестаты характеризовали П. Ф. Чайковского следующим образом: «По указу ея императорского величества от Владимирского пехотного полку дан сей оного полку лекарю Петру Чайковскому в том, что он состояния хорошего, и в пользовании больных находится весьма прилежен, от службы не отбывал, лености ради больным не рапортовался и вел себя порядочно, а сверх того в походах против неприятеля, положенную на него должность справлял знающим и примернейшим образом, за что пожеланиям его всякого требования достоин…» – полковник Сергей Филатников, 1777 г.; «Лекарю Петру Чайковскому дан сей в том, что он состояния весьма доброго, в науке медико-хирургической довольно искусен и знающ и в пользовании больных прилежен и рачителен» – подписали доктор Карл и штаб-лекарь Гамальян, выдан в Перми 10 декабря 1781 г.
В 1783 г. из Вятского наместничества было направлено в медицинскую коллегию ходатайство: «…лекарь Чайковский должен быть награжден за службу и сносимые будучи в минувшую турецкую войну в походах труды, особливо в пользовании зараженных чумой военнослужителей… он …состояния доброго, в лекарственной науке искусен и прилежен, в здешнем губернском городе лекарем исправляет свою должность радетельно и искусством его, в пользовании в здешнем обществе больных, состоят все довольными, просим наградить его штаб-лекарским чином и принять в тамошнем городе на вакансию доктора». На его основании Чайковский 24 мая 1784 года был произведен в должность штаб-лекаря.
В 1785 г. по указу Екатерины II в качестве статского советника и кавалера ордена Св. Владимира 4-й степени, по представлению бывшего сначала вятским, а потом казанским губернатором Желтухина, его приписали к дворянам Казанской губернии среди 127 человек получивших права дворянства в Вятском крае (в качестве члена безземельного дворянства).
23 апреля 1789 г. уволен со службы определением государственной медицинской коллегии по его прошению.
С 20 августа 1789 г. на штатской должности дворянского заседателя в Вятском совестном суде с сохранением рангов и положенным по штату жалованьем.
В январе 1795 г. поступил на службу городничего в городе Слободской Вятской губернии.
В декабре 1796 г. переведен городничим в Глазов, той же губернии. При нем в городе была открыта ратуша, построена в 1811 г. первая больница на пятнадцать коек с платным лечением, осуществлена детальная разметка площадей, улиц и кварталов под руководством первого вятского губернского архитектора Ф. М. Рослякова. На этой службе оставался до своей кончины – 18 сентября 1818 г.
В 1776 году П. Ф. Чайковский женился на Анастасии Степановне Посоховой (1751 года рождения) дочери подпоручика Степана Посохова, служившего в Кунгуре и геройски погибшего при защите города Кунгура от нападения одного из полковников Пугачёва – Батыркая. У них родились одиннадцать детей:
Василий Петрович (р. 1777), начал службу в 1791 г. сержантом в Казанском артиллерийском парке (бывший второй фужелерный полк). В 1797 г. произведён в батальон генерал-майора Вильде квартергнистом. Одно время находился ординарцем при князе Зубове. В 1798 г. перешёл в гражданскую службу в чине титулярного советника при канцелярии принца Ольденбургского в Твери. В 1800 г. определен в Вятский Земский суд заседателем. В 1814 г. состоял надворным советником при водяных и сухопутных коммуникациях. Умер в чине статского советника;
Евдокия Петровна (р. 1780), замужем с 1802 г. за заседателем земского суда города Слободского Василием Павловичем Поповым;
Екатерина Петровна (р. 1783). Она вышла замуж в 1805 г. за поручика государственного Ижевского завода Василия Парфёновича Широкшина (р. 1776). Проживали они на Ижевском заводе. В. П. Широкшин был сыном священника, закончил в Вятке духовную семинарию, учительствовал. В 1804 г. уволен из духовного звания и определён помощником управителя Ижевской конторы. В 1810 г. он был маркшейдером 9-го класса. У них было двое детей: Николай (род. 1810) и Петр (р. 1810).
Иван Петрович (р. 3 января 1785, Вятка), В службу вступил в 1800 г. Служил, по выходе из Второго кадетского корпуса в Петербурге, в одиннадцатой артиллерийской бригаде батарейной роты № 2, принимая участие во многих походах против неприятеля. За храбрость при Прейсиш-Эйлау получил орден Св. Георгия 4-й ст. В 1808 г. произведён в чин порутчика. Убит в 1813 г. под Монмартром в Париже (вторая версия: умер в городе Гродне 8 января 1813 г.);
Александра Петровна (р. 1786). Она вышла замуж в 1810 г. за титулярного советника вдовца Ивана Федоровича Евреинова (Еврейнова), иностранца по происхождению. Жили они на Ижевском заводе, куда Иван Фёдорович прибыл из Вятки в декабре 1806 г. Венчание проходило в Пророкоильинской церкви. У них был один ребенок – Петр (1812-1849);
Петр Петрович (1789–февраль 1871), офицер, поступил на службу в 1802 г. Сначала служил в лейб-гвардии гренадёрском полку, а потом в армии. В разное время принимал участие в 52 сражениях: в турецких кампаниях 1804 и 1809 гг. и во французских – в 1805, 1812 и 1814 гг. Из всей своей боевой службы вынес несколько тяжёлых ран (считался раненым первого разряда) и орден Св. Георгия 4-й степени за храбрость. В 1831 г. был комендантом в Севастополе, а затем директором пятигорских Минеральных Вод. Умер в глубокой старости в чине генерал-майора в отставке. Женат был на Евдокии Петровне Беренс (или Елизавета фон Беренс) и имел восемь детей: Анна (1830-1911); Софья (1833-1888); Александра (1836-1899); Илья (1837-1891); Лидия (1838-1901); Митрофан (1840-1903); Андрей (1841-1920) и Надежда (р. 1841).
Анна (р. 1790, умерла в раннем детстве);
Мария (р. 1792;. умерла в раннем детстве);
Владимир Петрович (1793, Вятка – 1850). В службу вступил из дворянского полка при 2 кадетском корпусе. Служил в Белостокском армейском пехотном полку. С 27 ноября 1811 г. в Симбирском пехотном полку – прапорщиком. В 1818 г. произведён в капитаны. В 1819 г. уволен со службы по домашним обстоятельствам. Впоследствии служил заседателем Оханского земского суда, занимал должность городничего в городе Оханске Пермской губернии, служил бухгалтером Пермской казённой палаты. Женат был на Марье Александровне Каменской и имел трёх сыновей и дочь Лидию – подруга детства композитора;
Илья Петрович (1795-1880), отец композитора;
Олимпиада Петровна (1801-1874) была младшим ребенком в семье. Она вышла замуж в 1817 г. за Ивана Ивановича Антипова, Пермского уездного суда горного члена маркшейдера (старшее должностное лицо в горнодобывающей промышленности), и у них было семеро детей - Петр (р. 1819); Екатерина (р. 1822); Александр (1824-1887), горный инженер и геолог; Михаил (1824 - 1897); Алексей (1833-1913); Елизавета и Aпполинария.
Андрей Михайлович Ассиер (1779–1830-ые)
Дед композитора по материнской линии, католик французского происхождения, явившийся в Россию из Пруссии (Саксонии), куда отец его эмигрировал, вероятно, во времена Великой французской революции. Приняв русское подданство, Андрей Михайлович, благодаря общественным связям и своему образованию, особенно по знанию языков, вскоре занял заметное положение. Отличался особой нервностью, доходившей до припадков, почти эпилептических. В последние годы жизни служил по таможенному ведомству и умер в чине действительного статского советника в тридцатых годах девятнадцатого века.
Женат он был два раза. В первый раз на дочери дьякона Сергиевского собора в Санкт-Петербурге, Екатерине Михайловне Поповой, умершей в 1816 году. От этого брака Андрей Михайлович имел четырёх детей:
Михаил, воспитанник Пажеского корпуса, служивший в лейб-гвардии Гренадерском полку и умерший молодым;
Андрей, так же воспитанник Пажеского корпуса, числившийся в рядах Кавказской армии, умер в чине полковника в 1880-х годах;
Екатерина, в замужестве за генерал-майором Алексеевым;
Александра, мать композитора.
Во второй раз Андрей Михайлович был женат на Амалии Григорьевне Гогель и имел одну дочь:
Елизавета, в замужестве за жандармским полковником Василием Васильевичем Шоберт. И Екатерина, и Елизавета Андреевна были очень близки к Петру Ильичу.
В перечне предков П. И. Чайковского и родных по восходящей линии нет ни одного имени, которое как-нибудь было связано с музыкальным искусством. Дилетантами в музыке являются только три лица: брат матери, Михаил Андреевич Ассиер, сестра ее, Екатерина Андреевна, прекрасная, в свое время известная в петербургском обществе, любительница-певица, и сама мать композитора, Александра Андреевна, выразительно и с чувством певшая модные в то время арии и романсы.
Если, по уверению некоторых современных ученых, гений есть своего рода психоз, то, может быть, вместе с истеричностью к Чайковскому перешел и музыкальный талант от Ассиеров.
Елизавета Михайловна Чайковская (Липпорт, по первому мужу, урожд. Александрова) (1829–1910)
Мачеха композитора. В 1863 году Елизавета, которая к тому времени потеряла своего первого мужа, познакомилась с семьей Чайковского в Санкт-Петербурге, а два года спустя, она стала третьей женой отца композитора. Брат композитора Модест позже вспоминал: «С её безусловной преданностью, ласковой заботой и тактичностью она завоевала уважение и признательность всех тех, кто был вокруг неё. Петр Ильич очень любил эту женщину, и во всех практических трудностях он обращался к ней за консультацией и помощью".
источник: http://chaiklib.permculture.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.aspx
Во второй половине XIX века железнодорожный транспорт в России развивался интенсивно, а подготовленного рабочего звена не хватало. Повсеместно приходилось приглашать иностранных механиков. После открытия первой магистрали Петербург-Москва на ее станции Вышний Волочок довольно быстро было создано «Училище кондукторов путей сообщения», где основательно готовили специалистов самого широкого профиля. Но государственной сети подобных училищ не было, и каждая дорога готовила кадры, исходя из своих потребностей.
В Москве до 1917 года практически на весь громадный узел было только три технических училища, четвертое, поскромнее, на Московско-Курской дороге. Как известно, инициатором этого важнейшего дела был А.И.Дельвиг, возглавлявший в МПС Управление частных железных дорог, который настоял на отчислении ими определенных сумм на создание училищ.
Oтсюда самое первое в Москве, которое так и называлось - Дельвиговское железнодорожное училище, открыло свои классы в 1872-м на Новой Басманной, в арендованном доме. Но настоящую известность это училище получило в 1878 году, когда на 2-й Мещанской (ныне ул. Щепкина) Дельвиг на деньги И.Ф.Мамонтова, Ф.В.Чижова, С.С.Полякова, П.И.Губонина (было собрано 150 тыс. рублей) выстроил отличный учебный корпус и мастерские. Здание это живо-здорово и поныне, но там расположилась фирма и нет никакого упоминания о Дельвиге и его детище. Каждое училище имело своего попечителя - «отца родного», который финансировал дело и спрашивал по всей гамме вопросов. Обычно это был управляющий или начальник дороги, для которой и готовились кадры, в данном случае Московско-Ярославской.
Почти одновременно с Дельвиговским, в ноябре того же 1872-го, на деньги Карла фон Мекка на Нижней Красносельской, 39 было открыто техническое училище Московско-Казанской железной дороги. Многие это училище считают первым,так как оно сразу въехало в собственный, специально оборудованный корпус для занятий и учебной практики и не «ходило с протянутой рукой», собирая нужную cyмму. Это означало также и то, что фон Мекк давно вынашивал эту мысль и заранее приступил к постройке здания, значительно обогнав Дельвига. Да, здесь же была предусмотрена и домовая церковь Св. Филиппа, покровителя семьи фон Mекков.
Училище - солидное двухэтажное кирпичное здание, с просторными классами, современным потому времени оборудованием мастерских - выпускало отлично подготовленных специалистов, «низших техников железнодорожной службы». Их охотно брали, при разрешении Казанки, не только на московские дороги. При приеме ученик обязан был представить свидетельство об окончании городского училища или церковно-приходской школы. «Поверочные» испытания проводились «в русском языке и арифметике», причем учеников принимали разновозрастных - от 14 до 18 лет. Нередко занятия здесь проводил сам попечитель, т.е. управляющий дорогой, талантливый инженер Е.Е.Нольтейн, автор ряда серий паровозов и будущий профессор МИИТа.
Кстати, многим своим ученикам он помог впоследствии стать инженерами. В советское время на базе этого училища долгие годы действовал техникум тяги имени Октябрьской революции.
Будучи напористым человеком, Дельвиг настоял на открытии училища и на Московско-Смоленской (затем Московско-Брестской) железной дороге. В 1878 году в наемном доме вдовы Горчаковой - как раз 125 лет тому назад - на 1-й Тверской-Ямской начался учебный год еще одного железнодорожного училища. Было принято 58 учеников при 90 поданных заявлений. Училище это тоже имело достойных педагогов, мастерские под боком, но главной его достопримечательностью было нарядное здание. Загляните, при случае, на площадь Белорусского вокзала. Рядом со стеклянным кубом Московско-Смоленского отделения дороги, стена к стене, ласкает глаз изящный домик - ныне там местное управление транспортной милиции. Это и есть бывшее железнодорожное училище. Здание сие перестроил и облагородил военный инженер, поручик Рерберг, что впоследствии, уже в чине подполковника, воздвиг Киевский вокзал, а до того успел завершить управление Московско-Киево-Воронежской дороги, что на Чистых прудах.
В этом училище более 25 лет неотрывно был директором опытный педагог В.Г.Ульянинский. Совет училища ходатайствовал перед министром путей сообщения М.И.Хилковым о разрешении повесить портрет директора в актовом зале, и такое разрешение последовало. После революции живописный этот портрет уцелел и, по словам ветеранов Смоленки, еще в 1950-х хранился в семье одного из выпускников училища.
В заключение нелишне будет вспомнить, что только 2 октября 1940 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах». Этот документ, собственно, и положил начало созданию системы профессиональных училищ.
Юлиан Толстов
источник http://www.tolstov-heritage.ru/publ/pervye_uchilishha_v_rossii_pojavilis_u_zheleznodorozhnikov/1-1-0-100
 К 1851 году Россия своими силами пустила в эксплуатацию двухпутную магистраль Санкт-Петербург-Москва. Столь мощной дороги в Европе еще долго не было и в помине. Но отечественные царедворцы на пике железнодорожного строительства решили крупно заработать, не прилагая особых усилий. Заручившись поддержкой императора, «благословившего» на участие в дележе грядущих прибылей своих сыновей, известные сановники Н.Анненков, А.Сабуров, К.Арсеньев, М.Поливанов решили создать акционерное общество по постройке Саратовской железной дороги - сразу на 700 верст. Этот кратчайший путь в Поволжье сулил богатейшие возможности в перевозках товаров и грузов.
К 1851 году Россия своими силами пустила в эксплуатацию двухпутную магистраль Санкт-Петербург-Москва. Столь мощной дороги в Европе еще долго не было и в помине. Но отечественные царедворцы на пике железнодорожного строительства решили крупно заработать, не прилагая особых усилий. Заручившись поддержкой императора, «благословившего» на участие в дележе грядущих прибылей своих сыновей, известные сановники Н.Анненков, А.Сабуров, К.Арсеньев, М.Поливанов решили создать акционерное общество по постройке Саратовской железной дороги - сразу на 700 верст. Этот кратчайший путь в Поволжье сулил богатейшие возможности в перевозках товаров и грузов.
В упор не замечая достижений российских инженеров, учредители, пригласив «за компанию» вице-президента Совета Бельгийских железных дорог, пoчт и телеграфа Ф.Брауэра де Гогендорпа, банкиров В.Жадимеровского, К.Капгера и Г.Марка, сделали крен в сторону западного опыта, доверив изыскания и постройку инженерам Англии, Бельгии и Пруссии. Главным директором строительства стал инженер Жаклэн, не сумевший проявить себя на Нижегородской дороге. Однако русские инженеры Романов и Рухневский ходили всего лишь в помощниках, хотя за ряд упущений тому Жаклэну, не сумевшему построить дороry даже до Коломны, вскоре выписали билет «до дому».
Российское железнодорожное ведомство много внимания уделило составлению устава вновь созданного Общества Саратовской дороги. Однако, несмотря на обилие параграфов, и тут не обошлось без упущений. Хотя впоследствии документ и стал руководством при строительстве других дорог. Но, ввиду отсутствия указания о стороне движения, что затем особо оговаривалось в уставах последователей Общества, и потому, что стройку вели иностранцы с практикой левостороннего движения, поезда по этой линии так и ходят «не по-русски». Во-вторых, уставом, предусматривающим отсыпку земляного полотна и возведение мостов сразу «для двойного железного пути», давалось послабление в виде права открывать «движение с одним путем при достаточном для безопасности количества разъездов».
Александр II 17 июля 1859 года начертал на уставе «Быть по сему», тем самым дав старт строительству дороги на Саратов через Коломну, Рязань и Моршанск. Основной капитал общества определили в 45 млн рублей, который планировали создать за счет выпуска акции. Однако уже первый выпуск на 10 миллионов не был распространен и наполовину - купечество выжидало: пойдет дело или нет?
Общество обратилось к властям с ходатайством разбить стройку на четыре участка: два до Рязани и два до Саратова. При этом отодвигались и сроки постройки - на 1868 год. К январю 1860-го закончились изыскания до Коломны, но возникли сложности с отчуждением земель под трассу. В Москве было отчуждено «под дворами, под садом, под разным сором, конюшнями» 40 участков. Сверх того «за переноску строений, как в Москве, так и на линии, за остановленные мельницы, лесные порубки, потраву хлебов и огородных овощей» были удовлетворены требования еще 45 частных владельцев. Обществу это обошлось в 270 тыс. рублей. А ведь в пределах Москвы двор еще и отделяли от дороги заборами - на всем протяжении.
Император заинтересованно следил за стройкой. В Историческом архиве Москвы хранится карта «Саратовская железная дорога от г. Москвы до г. Коломны» с пометкой: «На подлинном написано: Государь Император Высочайше соизволил утвердить указанное на сей карте малиновою чертою направление Саратовской железной дороги между Москвою и Коломной от 15 до 97 версты ... »
И 26 июня 1860 года, при многочисленном стечении публики состоялась закладка и освящение будущей магистрали. Это мероприятие проходило не в Москве, где тяжбы с землевладельцами отчуждаемых участков продолжались вплоть до того, как была построена едва ли не половина всей трасcы, а близ деревни Жулебино (в районе нынешней платформы Косино). Для простой публики были накрыты столы под открытым небом, знать во главе с председателем правления Общества отобедала во дворце усадьбы Кусково.
Компания известных подрядчиков «Дуров, Мекк и Садовский» выставила 4,5 тысячи рабочих и 300 лошадей с грабарками - сила по тем временам внушительная.
Строительные работы, а возводились сразу восемь станций - Москва, Люберцы, Быково, Раменское, Фаустово, Воскресенск, Пески и Коломна, шли своим чередом, пока правление Общества подсчитывало убытки и переплаты. Новым председателем правления стал Павел Григорьевич Дервиз, главным подрядчиком - Карл Федорович фон Мекк. Эти обрусевшие немцы сумели в короткий срок переломить ситуацию, но стоимость акций дороги все равно упала ниже номинала в 100 рублей - до 73. На чрезвычайном собрании акционеров Дервиз объявил едва ли не об остановке стройки, а стоимость готовой версты коломенского участка достигла 85 тысяч рублей вместо предполагаемых 62 тысяч. Общество выступило с заявлением, что ввиду банкротства главных акционеров и значительных затрат оно не может вести дорогу до Саратова и просит власти ограничиться устройством пути только до Рязани.
Согласие императора последовало довольно скоро, и с 8 января 1863 года Саратовская дорога вместе с Обществом ее имени исчезла, уступив «левую колею» Московско-Рязанской железной дороге. Та, в свою очередь, просуществовала 30 лет, а когда началось строительство дороги до Казани, стала именоваться Московско-Казанской. Поэтому и Рязанский вокзал - малопривлекательный, одноэтажный, постройки архитектора М.Левестама, уступил место Казанскому, возведенному А.Щусевым.
Техническая приемка линии Москва-Коломна летом 1862 года проходила по весьма упрощенной схеме - давил с открытием Зимний дворец. 13 июля по линии проехал сам Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями генерал К. Чевкин, на месте лично разрешив все вопросы. Дороге было предписано в недельный срок устранить замечания и приступить «к правильному движению поездов». Всю ответственность взял на себя штабс-капитан Н.Ильин, первый управляющий Московско-Рязанской железной дороги. Но к открытию участка 20 июля 1862 года устранить все недостатки не удалось: ни на одной станции вокзалы не были достроены. Из-за отсутствия платформ пассажиры выпрыгивали на путевой балласт, дам принимали на руки.
И еще одна своеобразная жалоба: « ... поезды не имеют определенных часов прибытия и ... механик действует парами как ему угодно относительно времени езды».
При открытии дороги путь до Коломны занимал четыре часа. Вагоны комфортом не отличались. Лавки в 3-м классе располагались вдоль вагона, отчего пассажиры, приносившие основной доход, испытывали неудобства из-за громоздкого багажа и невозможности занять месго, не наступив на ноги уже сидящим. Поэтому дороге пришлось срочно закупать новые вагоны. Хотя, судя по отчету правления Общества в марте 1863 года, хватало и других проблем. Например, станция Москва-пассажирская в нынешнем понимании просто не существовала: вместо вокзала - навес дебаркадера, четыре сарая для дров и сарай для товаров, веерное локомотивное депо готово, а вагонные мастерские достраиваются ... Тем не менее со дня открытия участка и до 1 января 1863 года дорога перевезла 113434 пассажиров и 2763 тыс. пудов грузов ...
Юлиан ТОЛСТОВ,
историк-архивист
100 лет с начала строительства больнично-санаторного ансамбля
Также в 2013 году исполняется 135 со дня рождения автора проекта Александра Аванесовича Таманяна
15 мая, 2013
Текст: Ирина Рубашкина
Источник
В 1913 году широкую известность в царской России принес Таманяну комплекс сельскохозяйстве
Ансамбль больницы для служащих Московско-Рязанс
Родство с Чайковским через великого сына
В конце ХIХ века вдове-миллионерш
Николаю фон Мекку исполнилось 20 лет, когда он ушел из Училища правоведения, связанного с памятью Чайковского, и стал водить поезда как кочегар, а потом как машинист. Отдавая прачке его сорочки, жена Анна говорила: «Коля опять рулил». Аня, племянница Чайковского, была институткой, причем, Патриотический институт она окончила с Шифром - золотой монограммой царствующей императрицы на андреевском банте.
В 1910 году Николай и Анна фон Мекки продали усадьбу на Украине и два летних сезона провели на подмосковской даче в Прозоровке (Кратове). Их летний дом располагался у железной дороги на берегу озера. У счастливой четы было пятеро детей. Дети, в том числе дочь Галина, готовились к экзаменам. Отец уезжал в железнодорожную контору на скором поезде. Вечерами они собирались вместе, - плавали на лодке, пробиваясь через остатки островов к речушке, которая питает Кратовское озеро. А уже в 1911 году севернее железнодорожной станции Прозоровка вырос Грабарский поселок. Грабарей наняли на ирригационные работы. Чудесный озерный ландшафт был рукотворным.
До сих пор ближайшие к Жуковскому улицы бывшей Прозоровки носят названия станций Московско-Рязанс
На территории ЛИИ им. Громова осталась частичка памяти о чьем-то городе детства. Еще в 60-е годы люди здесь не только работали, но и жили. Пессимист скажет, что здесь ничего не сохранилось от архитектурного ансамбля по проекту Александра Таманяна, а оптимист верит: дух всегда присутствует в облике старых зданий. К сожалению, разрозненный по своему назначению архитектурный ансамбль больницы перестал восприниматься как целое. Здесь что-то от шекспировских трагедий: порвалась связь времен. Но попробуем соединить эту связь через рассказ об Александре Аванесовича Таманяне - Александре Ивановиче Таманове , как его привычно звали в царской и советской России.
Архитекторы против землемеров
В 1913 году у правления Московско-Рязанс
В царской России дачные участки и кварталы городов разбивали землемеры, участие архитектора не считалось необходимым. Но в 1913 году Николай фон Мекк собственноручно внес в список привлеченных к работе архитекторов имя восходящей звезды русского зодчества – Александра Таманяна. В свою очередь Таманян привлек к проектированию улиц и зданий города-сада Николая Буниатяна, который в 1924 году станет главным архитектором города Еревана (кстати, центр Еревана с высоты птичьего полета напоминает планировку города-сада в Прозоровске). Идеи города-сада привнес гражданский инженер Владимир Семенов, автор книги «Благоустройство городов» (1912), изучивший, как библию, книгу английского социолога Э.Говарда и структуру городов-садов Англии. Семенов, Таманян и железнодорожный олигарх Николай фон Мекк сошлись в едином мнении: русский идеал дома - дом-особняк. По словам Галины фон Мекк, дочери миллионера, «Таманов рисовал фасады».
На плане дачного поселка при платформе Прозоровская, опубликованном в 1913 году в журнале «Железнодорожное дело», уже есть очертания зданий больницы для служащих Московско-Рязанс
Был ли построен ансамбль Таманяна?
Строительство ансамбля больницы начали в 1913 -1914 годах и вчерне закончили к 1918 году. Завершение комплекса датируется 1923-м годом (у Яралова). Таманян, по-видимому бывал здесь. Его проект в значительной своей части получил строительное воплощение и позволяет судить о замысле мастера.
«Задуманный с широким размахом, гармонично спаянный в ансамбль, комплекс более чем десяти сооружений, воспринимается как единое целое, в котором все части подчинены друг другу, начиная с главного корпуса и кончая небольшой постройкой кухни. Таманян сумел создать утилитарные (полезные, бытовые) сооружения, представляющие собой высокое произведение искусства», - так писал в 1950 году Ю.С.Яралов в редкой монографии о Таманяне.
Не вдаваясь в описание и разбор всех сооружений комплекса (что может быть предметом специального исследования) Яралов описывает лишь здание санатория для туберкулезных, ныне корпус 1 на территории ЛИИ им. М.М.Громова.
Бывший санаторий туберкулезных напоминает на плане плечи весов. Символические «весы судьбы» и другие здания больницы в 1928 году были переданы санаторию ВЦСПС. Старожилы вспоминают, что больницу сначала оставили на разграбление, а потом открыли - по тому же профилю, что и планировался при Мекках. Михаил Александрович Знаменский, главный инженер ЛИИ им. Громова, сообщил, что при передаче имевшихся зданий в аренду санаторию ВЦСПС имени Ленина их техническая готовность составляла 50 процентов. В 1928 – 1941 годах санаторий достраивал жилье для обслуживающего персонала. С началом войны в зданиях больницы располагалась Авиационная дивизия дальнего действия ВВС. В июле – августе 1944 года комплекс передали ЛИИ им. Громова. В передаточном документе значится 17 объектов: «основные здания бывшего санатория, начатые постройкой в 1913 – 1916 году владельцем бывшей Московско-Казанс
Не имея доводов в виде атрибутированных рисунков А.А.Таманяна, сообщаем, что архитектурные рисунки и проектные материалы о больнице могут находиться в Центральном архиве Московско-Рязанс
В крупных зданиях (театр «Стрела» и корпус 1) в качестве декора принят ионический ордер. В остальных постройках Таманян еще более сдержан. «Окна в плоских полуциркульных нишах, изредка - сандрики под центральными окнами, неглубокий руст и легкие козырьки над центральными окнами – вот все средства, которыми он оперирует. Однако именно в этой сдержанности заключена сила художественного воздействия архитектуры ансамбля».
Только некоторые планы Таманяна не были воплощены, но это небольшие здания – часовня, сторожки, ограды, жилые дома для врачей… Позднейшими пристройками и перестройками облик многих зданий ансамбля был искажен. Например, в 1950 году крылья корпуса «Стрела», построенные «для солярия в виде легких веранд тосканского ордера», стояли обшитые тесом.
Побеждая вспыхнувшую страсть. Таманов и Галина фон Мекк
С дочерью железнодорожного магната - Галиной Николаевной фон Мекк - Александр Таманов познакомился в Петербурге. В 1918 году они встретились в Москве. Таманов тогда продолжал работу над планировкой и архитектурой города-сада (об этом упоминает С.Ю.Яралов). Они гуляли по столице, осматривали монастыри и музеи. «За всю жизнь я не узнала столько об архитектуре и искусстве, сколько во время этих прогулок», - призналась Галина. Таманов оказался высокообразованн
Но вернемся к воспоминаниям Галины фон Мекк. Дружба между ними несла в себе романтический оттенок. Александр Таманов признался, что стал ее обожателем с первого взгляда. Но она была замужем. «Скромное признание Таманова льстило мне, но я чувствовала, что за внешне сдержанным обожанием скрывается страсть, которая может легко вспыхнуть, если я не буду соблюдать осторожность», - писала она. Молодая женщина чувствовала себя одинокой в браке со «слишком англичанином» Вильямом Ноэлем Перротом, который навсегда уехал в Англию в 1918 году.
В 1923 году при попытке пересечь польскую границу Галину арестовали, но через год выпустили, и она вернулась в Москву, где жили ее родители. Александр Таманов тогда тоже приехал из Еревана в столицу. Доктор, друг семьи фон Мекков, посоветовал Гале быть к нему чуткой: гордый талантливый «персидский король» терял зрение. Когда он приехал в гости к Николаю фон Мекку, Галина заметила, что уверенная походка Александра исчезла и сменилась движениями слабовидящего, но ходил он еще без тросточки. Возможно, что они побывали в Прозоровке, где по его проектам продолжалось строительство больницы. В Ереване Таманян возглавил масштабную реконструкцию армянской столицы и к счастью успел сделать все основные разработки. В 1924 году его дело продолжил Н.Н.Буниатян.
Галина несколько раз встречалась с Тамановым, стараясь быть с ним приветливой и не давать ни малейшего намека на то, что замечает его подавленное состояние: врачи не оставили ему никакой надежды на излечение от недуга. Александр уехал из Москвы, не попрощавшись с ней, но передав через доктора, что надеется на ее приезд к нему в Ереван.
В 1925 году Галина действительно замыслила путешествие по Кавказу. В Ереване ее приняли Таманян и его очаровательная жена Камилла. Женщины одного круга быстро сдружились, но Таманян считал Галину фон Мекк своей гостьей и ревновал к женской дружбе. Жена конечно, догадалась, что он неравнодушен к Галине, но приняла это увлечение философски. А его страсть не прошла за годы, которые миновали после их встреч в Москве. Александр был уверен, что Галина отвечает ему взаимностью, хотя и платоническим чувством; по-видимому, он был прав.
Смущавшие ее отношения закончились тем, что Таманян обиделся и замкнулся в себе, считая ее жестокой, презирающей его в горе. Он просто не хотел слышать «нет». При прощании молча повернулся к ней спиной. К сожалению, слепота была не единственным преследовавшим его несчастьем. Через год он потерял дочь, а вскоре умерла и жена. Хлебнувший горя народный художник Армении А.А.Таманян умер в 1936 году.
Галина фон Мекк умерла в 1985 году в Англии. Во время Великой Отечественной войны она уехала из Малоярославца с потоком отступавших немецких обозов и увезла с собой двухлетнюю племянницу Лену и престарелую маму Анну Львовну, жену Николая Карловича фон Мекка, племянницу Чайковского. Немцы просили мадам Анну рассказать военному корреспонденту о судьбе мужа, и она рассказала: Николая фон Мекка, предательски расстрелянного в 1929 году, арестовывали 8 раз, обыскивали 45 раз.
Живую память о семействе фон Мекк по сей день хранят его внучка Елена Говард (в Англии) и семья москвичей Себенцовых – потомки другой его внучки, уже покойной Татьяны фон Мекк. Все они бывают в Кратове не только на юбилеях, но и по зову души. «Отечества и дым нам сладок и приятен».
Бывшая кухня - типография ЛИИ им. М.М. Громова

Фото кухни

Дом Щербатова на Новинском бульваре в Москве. Архитектор А.Таманян

1914 год. Строители больничного городка

Корпус 1 ЛИИ им. М.М.Громова