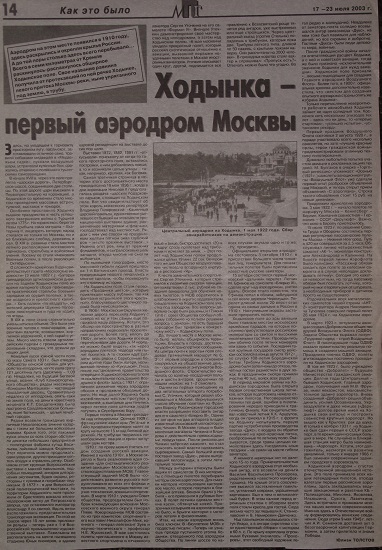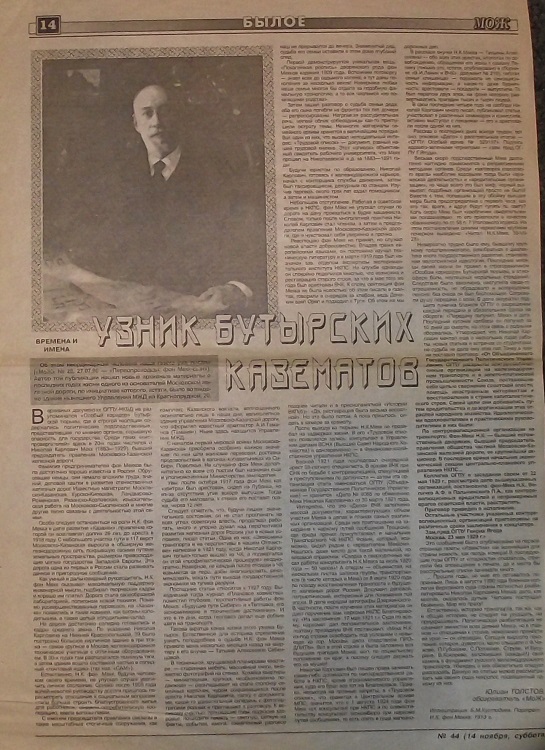История рода Фон Мекк
источник: http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&refererLayerId=5618&id=1236
История российских магистралей
Благодаря всемирно известной ярмарке, Нижний Новгород стал "карманом России".
Каждый год сюда съезжались купцы со всего мира. А. С. Пушкин в 1836 г. писал: "Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород была бы еще нужнее дороги из Москвы в Петербург - и мое мнение было бы: с нее и начинать".
Эту идею в 1836 г. поддержал М. С. Волков - один из прогрессивных деятелей того времени - в своей статье о пользе железных дорог в России.
10 мая 1847 г. императорским указом было одобрено строительство дороги от Москвы до Нижнего Новгорода. Но прошло более 10 лет, прежде чем началось строительство. В первой половине мая 1858 г. были организованы работы на участке Москва - Владимир. На участке Владимир - Нижний Новгород строительство развернулось только с весны 1859 г.
Первые проекты строительства Нижегородской железной дороги относятся к 30-м годам XIX века. Однако только 10 мая 1847 г. императорским указом было одобрено строительство дороги от Москвы до Нижнего Новгорода. Прошло еще более 10 лет, прежде чем началось сооружение магистрали.
В первой половине мая 1858 г. были организованы работы на участке Москва - Владимир. На участке Владимир - Нижний Новгород строительство развернулось только с весны 1859 г. 1 августа 1862 г. было открыто движение на всем протяжении Московско-Нижегородской железной дороги. Но этот торжественный день был омрачен несчастьем: под Ковровом поезд потерпел крушение. А в 1867 г. фундаменты моста, построенного через р. Клязьму, не выдержали напора воды при паводке. Основной причиной произошедшего было то, что при строительстве искусственных сооружений и проектировании земляного полотна иностранные инженеры не учли климатических особенностей России. Рельсы и металлические части мостов, а также весь подвижной состав для Московско-Нижегородской железной дороги был заказан за границей. Только в 1877 г. по инициативе управляющего дороги И.Ф. Рерберга близ Нижнего Новгорода был открыт первый в России завод по пропитке шпал. Через несколько лет Центральные механические мастерские в Коврове начали выпускать собственные вагоны; там же были организованы и ремонтные мастерские.
В 1856 г. было образовано общество Московско-Саратовской железной дороги. Вскоре оно, пользуясь поддержкой Александра II, получило концессию на 80 лет. В 1863 г. общество изменило свои обязательства и стало называться обществом Московско-Рязанской железной дороги.
Подряд на прокладку полотна дороги и искусственных сооружений получил Карл Федорович Фон Мекк. Проработав долгое время инженером путей сообщения, К. Ф. Фон Мекк неожиданно уходит с государственной службы и всецело посвящает себя предпринимательской деятельности. Начало новой карьеры Фон Мекка связано со строительством линии Москва - Коломна, здесь проявились его организаторский талант, знания и энергия. Строительство линии протяженностью 117 верст началось 11 июня 1860 г. и шло ускоренными темпами. Рельсы и крепления к ним доставлялись морем в Кронштадт, а оттуда на обозах подвозились строителям. Около 4 тысяч наемных рабочих было занято на сооружении трассы. 20 июля 1862 г. все работы были закончены и дорога официально открыта для постоянного движения двух пассажирско-товарных поездов.
Весной 1863 г. началось строительство участка от Коломны до Рязани, протяженностью в 80 верст. Концессию получило общество Московско-Рязанской железной дороги, во главе которого был П.Г. фон Дервиз, бывший чиновник Комитета железных дорог. Подрядчиком общества стал К.Ф. фон Мекк.
Особые трудности были связаны с мостом через р. Оку. К лету 1864 г. подходы к нему были закончены. Сначала соорудили временный мост, и с 27 августа 1864 г. началось движение поездов от Коломны до Рязани. 20 февраля 1865 г. капитальный мост был построен. Он стал первым в России совмещенным мостом для железнодорожного и гужевого транспорта. Строительством руководил военный инженер А. Е. Струве. Для изготовления конструкций пролетных строений Струве создал мастерские, которые в 1872 г. были преобразованы в машиностроительный завод.
Поскольку объем перевозок с каждым годом увеличивался, в 1870 г. был построен второй путь. В том же году общество построило Егорьевскую и Зарайскую ветки. По всей линии вступали в строй новые станции. К 1898 году уже принимали пассажиров Сортировочная, Перово, Шереметьево (теперь Плющево), Вешняки, Косино, Подосинки (ныне Ухтомская), Люберцы, Томилино, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Раменское.
В 1890 г. в результате переговоров с правительством общество приняло на себя обязательства по сооружению дороги Москва - Казань, а также ветки от Коломны до Озер по левому берегу Оки. Теперь оно стало называться обществом Московско-Казанской железной дороги. Уже в сентябре 1893 г. открыто движение по Озерской линии и на участке от Рязани до Сасово, с 15 июня 1894 года - до Казани, а в сентябре того же года - по Симоновской ветке. По окончании строительства встал вопрос о соединении дороги с Сызрано-Вяземской линией, а также о сооружении железной дороги от Пензы до Балашова. Новая дорога дала выход на юг, соединив центральные районы страны с Казанской, Симбирской и Пензенской губерниями, богатыми лесом.
В 1891 г. председателем правления Московско-Казанской железной дороги назначен Николай Карлович фон Мекк, сын К. Ф. Фон Мекка. Он стал подлинным продолжателем дела своего отца. Не имея специального инженерного образования, Н. К. фон Мекк сумел на практике овладеть всеми тонкостями железнодорожного дела. В первое десятилетие его правления протяженность линий Московско-Казанской железной дороги увеличилась в 9 раз. Была создана новая железнодорожная сеть в Поволжье: Рязань - Казань, Рузаевка - Пенза - Сызрань - Батраки, Инза - Симбирск, Тимирязево - Нижний Новгород. Фон Мекк пользовался поддержкой и покровительством Великой княгини Елизаветы Федоровны (сестры императрицы), отзывавшейся о нем как о "честнейшем слуге Царю и Отечеству".
В 1897 г., после ввода в эксплуатацию Московско-Казанской дороги, появился проект сооружения линии от Нижнего Новгорода через города Арзамас и Лукоянов до Ромоданово. Линия должна была пролегать по Нижегородскому, Арзамасскому и Лукояновскому уездам. Сооружение линии началось в апреле 1900 г. Руководил работами на участке Арзамас-Ромоданово инженер Г. М. Буганов. Но строительство шло медленно, сроки сдачи железнодорожного полотна неоднократно срывались. В конце декабря 1901 г. было открыто товарно-пассажирское движение по линии, но скорость движения поездов не превышала 10 верст в час.
В 1902 г. общество Московско-Казанской железной дороги представило проект линии от Люберец через Муром, Сергач до Шихранов. Линия предполагала наличие моста через Волгу протяженностью 602 версты. Когда проект дороги обсуждался в правительстве, министр финансов Витте сказал: "Железная дорога, убыточная как отдельное предприятие, является частью весьма выгодною с точки зрения общей экономики государства ввиду того влияния, которое она оказывает на производительные силы страны, а за ними и доходы казны". В 1903 г. проект дороги был окончательно утвержден, но с началом русско-японской войны строительство было законсервировано. Только в апреле 1910 г. началось сооружение первого отрезка дороги - линии Люберцы-Арзамас. Руководил строительством инженер А. А. Фроловский. По проекту известного мостостроителя профессора Н. А. Белелюбского около Казани был сооружен мост через р. Волгу. Уже в декабре 1911 г. открылось временное движение на участке Люберцы-Муром, а с 15 октября 1912 г. поезда могли ходить по всей линии: от станции Люберцы до станции Арзамас.
В 1907 г. встал вопрос о необходимости соединения Нижнего Новгорода с Северной железной дорогой. В 1911 г. общество Московско-Казанской дороги приступило к строительству линии Нижний Новгород-Котельнич с веткой до города Яранска. Предполагалось строительство мостов через Волгу и Оку. Одновременно общество взяло на себя обязательства по сооружению магистрали Казань-Екатеринбург. Строительство и без того проходящее медленно, было прервано революцией. В 1918 г. вошла в эксплуатацию линия Арзамас - Канаш, обеспечившая кратчайшую связь Москвы с Казанью, и линия Агрыз - Ижевск - Воткинск.
Второй выход из европейской части страны на Урал и далее в районы Сибири дал участок дороги Казань - Агрыз - Свердловск, введённый в строй в 1924 г. В 1927 г. Москва получила ещё один путь в районы Южного Урала и Марий Эл через Нижний Новгород - Киров - Пермь на Йошкар-Олу. В 1940 г. закончена прокладка линии Яр - Фосфоритная и линии к столице Чувашии Чебоксары. В 1945 году введён в эксплуатацию участок, связавший Ижевск со станцией Игра, а в 1947 г. - отрезок от Пибаньшура до Игры, в результате чего были соединены линии: Казань - Свердловск и Киров - Пермь - Свердловск.
В 1936 г. в соответствии с приказом Народного комиссариата путей сообщения из состава Московско-Курской железной дороги была выделена Горьковская железная дорога, а из состава Московско-Казанской - Казанская железная дорога.
В 1961 г. в результате слияния Горьковской и Казанской магистралей возникла Горьковская железная дорога.
При подготовке материала были использованы следующие издания:
Стальная магистраль Нечерноземья.-Горький: Волго-Вятское кн. Изд-во, 1976.
История железнодорожного транспорта России. Т. I: 1836-1917гг. - СПб, 1994.
Железнодорожный транспорт: Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
Знаменитый московский долгострой (Политехнический музей)
<--к списку статей--<<
|
Старожилы-москвичи привыкли к ceгодняшнему облику известноrо квартала Новой площади, где вольготно раскинулось здание Политехнического музея. Своим появлением на карте гopoдa он обязан состоявшейся летом 1872 г. Политехнической выставке, посвященной 200-летию со дня рождения Петра Первогo. Памятную эту дату в истории России, император Aлександр II решил отпраздновать осо6енно широко и торжественно. Среди ю6илейных мероприятий значилось и проведение в Москве представительной Политехнической выставки. Горячим и деятельным инициатором ее выступило «Императорское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии» при Московском университете. Это общество задолго до открытия выставки опубликовало объявление, что « ... выставка имеет целью ознакомить русское общество, фабрикантов и промышленников с достижениями техники, современным развитием промышленности» . Здесь же было подчеркнуто, что экспонаты после закрытия станут основой Политехнического музея. Необычную эту выставку разместили нетрадиционно - в Кремле и около него. Здесь за короткое время возвели десятки оригинальных павильонов - под экспозицию было занято свыше 17 десятин (1 дес.= 1,09 га). Все дела, касающиеся выставки, были возложены на министра просвещения графа Д.А.Толстого, главным архитектором ее назначили известного московского зодчего Д.Н.Чичагова, который во многом содействовал ее успеху. Новизна выставки была и в том, что основные затраты несло не государство, а частные компании. В фонд выставки от предпринимателей, меценатов, поступила громадная для тех дней сумма - 200 тыс. рублей! Среди крупнейших меценатов были Малютины, Губонин, фон-Мекк , князь Голицин и многие другие. Не осталась в стороне и Городская Дума, которая помимо денег выделила Комитету выставки под склады и другие нужды необходимые помещения. Как правило, меценаты вкладывали средства в ту экспозицию, что считали нужной. Вот и заводчик Николай Иванович Путилов за свои деньги украсил отведенное ему место впечатляющей композицией из рельсов, что прокатывали его станы - вот вам реклама и показ возможностей фирмы. К торжественному дню Петр Ильич Чайковский написал специальную «Кантату на открытие Политехнической выставки в Москве», которая была исполнена музыкантами Большого театра 30 мая 1872 г. на Троицком мосту Кремля. Публика располагалась внизу, в саду. Москвичи охотно посещали действительно интересную выставку, все ее 25 разделов по многим отраслям народного хозяйства были зрелищем впечатляющим. После закрытия все нарядные павильоны разобрали, территорию привели в порядок. А экспонаты? Согласно положению о выставке, большинство из них «составило, зачаток нового музея, а именно политехнического». Кстати, коллекции Политехнического и в дальнейшем пополнялись за счет экспонатов выставок или просто переданных в дар предметов. Будущий музей не сразу обрел свое место в столице. Первые пять лет он располагался на одной из самых аристократических улиц - Пречистинке, в доме № 7. Массивное это здание когда-то принадлежало камергеру В.А.Всеволожскому, спустя годы дом этот разорившиеся потомки продали. Купивший его в 1870 году купец Степанов основательно восстанавливает, но в главной его части устраивает модный тогда яхт- клуб. Часть же здания передал под Политехнический музей, который был торжественно открыт в декабре 1872 г. Спустя годы, когда музей переехал в свои стены, дом этот купило военное ведомство и приспособило под штаб военного округа. Даже в те далекие годы найти в центре площадку для строительства было непросто. Проблема осложнялась еще и потому, что Городская Дума, ютившаяся в палатах Шереметева на Воздвиженке, мучительно искала и для себя место. Так уж сложилось, что свободной площадкой на Лубянке оказалось то самое место, где ныне высится здание Политехнического. Ранее там стояли балаганы, где торговали фруктами, сластями. Частыми тогда пожарами деревянные эти постройки были истреблены, а на возобновление их от городской головы согласия не последовало - пустырь решили не застраивать. Но высокое начальство, к великой досаде думцев, наметило именно здесь строить музей. Начало строительства Политехнического относится к 1875 году, а завершили все только в 1907 году. Вот и считайте, есть ли еще более продолжительный музейный долгострой - наверняка, нет. Важно, что этот музей создавался в немалой степени для просвещения широких слоев населения России, т.е. это была государственная программа. Отсюда казна, щедро ли, своевременно ли, но субсидировала и довела до благополучного завершения строительство комплекса. Хронологически он возводился в три «захода» и разными мастерами, что невольно привело к разностилью. В 1877 году по проекту академика архитектуры И.Монигетти построили одну центральную часть. Долгие 20 лет, этот массивный трехэтажный корпус стоял в одиночестве на фоне просторной площади. К 1896 г. архитектор Н.А.Шохин возводит в древне-русском стиле выходящее к Ильинским воротам южное крыло музея. И, наконец, в 1907 году построили левое крыло, в стиле модерн, со знаменитой Большой аудиторией, с фасадом на Лубянскую площадь (арх. П.А.Воейков и В.И. Ерамешанцев). Только теперь музей приобрел тот вид, к которому все давно привыкли. Сегодня Политехнический насчитывает 65 залов, тысячи экспонатов, демонстрирующих развитие отечественной техники. В 1991 году, указом Президента России музей объявлен федеральной собственнос тью, национальным достоянием. Он популярен и любим поколениями за прекрасные коллекции, яркие незабываемые выставки, что развертывались в его стенах, за большую просветительскую работу. Юлиан Толстов <--к списку статей--<<
|
От Казанки - на восток России
|
Первоначально железные дороги в России прокладывались вдоль старых гужевых трактов, что удобно связывало центр страны с ее окраинами. Не была исключением и линия, что стала строиться от Москвы на восток, к берегам Волги и далее. Дорога эта вначале именовалась Саратовской (1858 г.), а с 1862 года Московско-Рязанской. Частная компания, что взялась за решение этой задачи, с самого начала встретилась со значительными трудностями, приведшими к перерасходу средств, отсюда и масса недоделок. Задуманная с размахом на 700 верст с лихом, она едва дотянула до 117 верст, до Коломны. Пришлось в срочном порядке менять руководство строительством. Об этих обстоятельствах, в том числе и о появлении левой колеи, наша газета писала в №28 от 20.07.2007 г. Следует добавить несколько штрихов к той обстановке на линии. Только с условием скорой ликвидации огрехов компании было разрешено 20 июля 1864 года начать движение поездов на участке Москва-Коломна. К этому времени проект московской станции на Каланчевском поле дорога даже не представила якобы из-за споров по ценам на землю. К открытию движения в Москве стоял лишь деревянный дебаркадер и недостроенное здание. С вокзалом акционеры явно не спешили, так как движение в основном ожидалось товарное. Направленный, наконец, в МПС проект именовался временной пассажирской станцией, где одноэтажное невыразительное здание вокзала предполагалось впоследствии «быть обращенным в гостиницу или жилое помещение». Тесный, неудобный Рязанский вокзал на Каланчевском поле простоял с 1864 по 1913 год, когда правление дороги утвердило проект, и академик А.В.Щусев приступил к разборке ветерана и возведению на его месте величественного здания Казанского вокзала. Следует отметить, что акционерная компания Московско-Рязанской дороги, освободившись в 1862 году от первоначально приглашенных западных специалистов и подобрав сильную инженерную команду, довольно уверенно начала набирать обороты. Велика в этом роль отца и сына фон Мекков. К 1913 году Московско-Казанская дорога выросла в обширную железнодорожную сеть, покрывшую своими путями пространство, превосходящее целые государства Европы. На современном техническом оснащении строилась ее конкурентоспособность. Дорога постоянно выявляла творческих людей, она стала своеобразным полигоном для новой техники, современной системы связи, погрузочно-разгрузочных операций. Помимо новых паровозов появилась и такая новинка, как вагоны - холодильники. Достаточно качественно на дороге готовились кадры среднего звена. По указанию Н.К. фон Мекка невдалеке от станции Москва-товарная Казанская было создано самое крупное в Москве железнодорожное училище, куратором которого стал управляющий дорогой. После 1905 года стали больше строить благоустроенного жилья для рабочих, создали потребительскую кооперацию, ввели на линии вагоны-лавки. Фон Мекки - устроители дорог Готовя очередную серию публикаций «Путеводитель», теперь уже о восточном направлении столичной магистрали, нельзя не остановиться на личностях отца и сына фон Мекков, немало сделавших для развития железных дорог России. Отец, Карл фон Мекк, окончил Петербургский институт инженеров транспорта. Опытный инженер, умелый организатор, хороший экономист, Карл Федорович встал во главе правления Московско-Казанской дороги, которую возглавлял вплоть до своей смерти. Сын, Николай Карлович, стал достойным продолжателем дела. Будучи юристом, он основательно готовился к транспортной карьере, начав с кочегара паровоза и пройдя затем многие профессиональные ступени. И это на Николаевской, а не на «своей» дороге. В 1891 году он был избран членом, а затем и председателем правления Московско-Казанской железной дороги, коим оставался 27 лет, до осени 1918 года. Он многое сделал для развития Казанской дороги. Это прокладка линии до Казани, ветви к Зарайску, Озерам, Егорьевску, участки Рузаевка-Пенза, Рузаевка-Батраки с ответвлением на Симбирск, и многое другое ... Николай Карлович постоянно следил за новинками, выписывал журналы и книги по транспорту. Он стал отличным автомобилистом. Продав своих выездных лошадей, он купил себе и взрослым детям «мерседесы». В 1905 году фон Мекк был избран первым председателем Московского автоклуба, организовав первое в стране авторалли до Крыма. А в 1911 году при создании Российского воздухоплавательного общества во главе с академиком Н.Е.Жуковским принял активное участие в его работе. В Москве были хорошо известны музыкальные «среды» семьи этого неугомонного железнодорожника. Дважды в месяц по вечерам у него собирались музыканты. Не менее Николай Карлович почитал живопись, был знаком со многими крупными мастерами кисти, всячески помогал им в трудную минуту. Юлиан Толстов
<--к списку статей--<< |
Ходынка - первый аэродром Москвы
<--к списку статей--<<
|
Аэродром на этом месте появился в 1910 году, здесь раскрылись и окрепли крылья России. А до той поры столько здесь всего перебывало ... Всего в семи километрах от Кремля раскинулось-распахнулось обширное Ходынское поле. Свое название равнина получила от протекавшей по ней речкеХодынке, левого притока Москвы-реки, ныне упрятанного под землю, в трубу 3десь, на уходящем к горизонту просторном лугу, пасли скот, заготавливали отличное сено, травили собаками медведей в «Медвежьем садке», пускали воздушные шары, устраивали кулачные бои, сражались отчаянно с поляками и тушинскими самозванцами. В начале XVIII в. через это поле пролегла «царская дорога», Петербургское шоссе, соединившее две столицы. По этой дороге цари въезжали в Первопрестольную на коронацию, а Ходынское со временем стало местом проведения массовых встреч, гуляний, выставок и ярмарок. Особенно прославило Ходынку пышное празднество в честь успешного завершения войны с Турцией летом 1775 г. На торжество с берегов Невы прибыла сама матушка - Екатерина II, лицезреть которую народ стекался не только из Москвы, но и из ближайших слобод, деревень и сел. В XIX в. равнина стала местом летнего расположения московского гарнизона, стрельбищ и войсковых учений. Посему ее стали именовать Военным полем, а после революции - Октябрьским. О сложности армейских буден свидетельствует газета «Московские ведомости» (3 июля 1862 г.): «Батарея гренадерской артиллерийской дивизии на заднем Ходынском поле во время лагерного сбора производила практические стрельбы боевыми зарядами из орудий полевых, а также осаднога и крепостного калибра ... » Хоть палили «по квадрату», но жителей деревушки Щукино попросили поостеречься и туда не ходить по ягоды. В XIX в. поле стало стремительно уменьшаться в объеме. Это были уже военные лагеря с плацпарадом, шеренгами палаток, конюшнями, кирпичной водокачкой, к ней сарай с углем. Много места отвели артиллерийским паркам с громадными пороховыми складами, что дожили до наших дней. Немалый кусок Южной части поля по указу Сената 1831 г. был отведен «Обществу конской скачки» для устройства ипподрома, на что ушла сразу 121 десятина луга (десятина - 1,09 га). Невдалеке, на будущей Беговой улице, возник «Клуб Конноспортивного общества», рядом массивные «Конюшни Манташева» - настоящий лошадиный дворец. Сравнительно недалеко от ипподрома, опять-таки на земле поля, на деньги известного мецената К.Т. Солдатенкова была построена Солдатенковская больница, ныне Боткинская - целый лечебный городок. Рядом возвели громадные кирпичные Николаевские зимние казармы с таким же большим войсковым храмом. Кроме того, этот лакомый кусок земли со всех сторон обступили десятки небольших предприятий - политурная фабрика купца Васильева, лайковый заводик Федянина. Этот перечень можно продолжать: одни уходили, другие приходили коптить воздух и отравлять речку. Особняком стоят крупные Всероссийские выставки с массой павильонов, подсобных помещений, ангаров для хранения экспонатов, будок охраны, рестораны с кухнями и погребами-ледниками. В 1872 г., в дни Всероссийской политехнической выставки, на территории Ходынского поля проложили от Брестского вокзала железонодорожную ветку до Петровского дворца, где остановился император Александр IIсо свитой. Вдоль ветки расположилась представительная транспортная экспозиция. По этой же трассе через 10 лет вновь проложили рельсы - теперь уже к 1-й Всероссийской промышленно-художественной выставке. Павильоны ее располагались на месте нынешнего стадиона Юных пионеров, а здание царской резиденции на выставке до сих пор цело. Выставки 1872, 1882, 1891 гг. «откусывали» понемногу от когда-то такого просторного поля, оставались постройки, к ним добавлялись новые, а то и возникали целые улицы – такая, например, крупная, как Беговая. Самая трагичная страница в истории этого достопамятного места приходится на 18 мая 1896 г., когда в дни коронации Николая II предполагалась раздача «царских подарков» из ларьков, стоявших на Ходынском поле. Вот что свидетельствует об этом король московских репортеров Владимир Гиляровский: «Каменный царский павильон, единственное уцелевшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовал над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным желтым пятном зиял глубокий ров - место прежних выставок ... » Именно этот ров, ямы от прежних фундаментов, и сыграл роковую роль западни, откуда многие не смогли выбраться. По нынешней топографии, место массовой гибели людей пришлось на 1-й Боткинский проезд. Власть предержащие недолго печалились и многое сделали, чтобы перевернуть эту страницу истории. На Ходынском поле стали проводить «Праздники цветов», которые привлекали массу публики, так как фантазия устроителей этого красочного, благоухающего цветочного парада была неиссякаемой. В 1908 г. Московская Окружная железная дорога пересекла Ходынку с севера на юг и тем самым еще поприжала нашу равнину. Кстати, это обширное пространство в разных направлениях пересекали проселочные дороги. Более того, вплоть до 1920 г. летное поле Ходынки все еще перечеркивали две дороги. И нередко можно было видеть, как через аэродром плетется подвода или пылит пролетка. А то строем идут солдаты: ведь рядом с Серебряным бором долгие годы были лагеря, называемые почему-то «Кукушкой». Лишь после постановления правительства о передаче Ходынского военного поля «в исключительное пользование Воздушного флота» здесь с 1921 г. ограничили движение через аэродром обозов и проложили обходные дороги. Но еще долго Ходынка была излюбленным местом прогулок у москвичей: в выходные дни тянулись через летное поле цепочки людей погулять в Серебряном бору. Первые полеты в Москве проходили над ипподромом. Осенью 1909 г. французские авиаторы Леганье и Гийо продемонстрировали полет по кругу на высоте 15 м над беговой дорожкой. На трибунах творилось невообразимое: овации и крики заглушали шум мотора. 1910 г. по праву можно считать годом создания русской авиации. Именно в начале 1910 г. в Москве окрепла и была реализована идея создания «для систематического развития авиации» Московского общества воздухоплавания (МОВ). Главенствующей задачей МОВ было «содействовать развитию русского воздухоплавания во всех его формах и применениях, преимущественно научно- технических, военных и спортивных». В марте 1910 г. учредили Совет общества, председателем был избран командующий войсками Московского военного округа генерал Плеве. Новорожденное МОВ состояло из трех комитетов: спортивного - его возглавил Николай фон-Мекк, военного - генерал-лейтенант 3уев и научно-технического - профессор Н.Е. Жуковский. В мае состоялись полеты приглашенного в Москву известного спортсмена и отчаянного авиатора Сергея Уточкина на его самолете «Фарман IV». Вначале Уточкин демонстрировал свое мастерство над ипподромом, а затем над Ходынским полем. «6 мая москвичи увидели прекрасный полет, который рассеял скептическое отношение к авиации, вызванное первыми неудачными полетами в Москве иностранных авиаторов. Уточкин описывает один круг, другой, поднимается все выше и выше, быстро достигает 120 м и вдруг сразу пролетает над трибунами и исчезает за ними ...» Этот полет над Ходынским полем продолжался целых 19 мин. 22 сек. Вечером того же дня Общество воздухоплавания чествовало воздушного виртуоза в ресторане «Яр». К чести замечательного спортсмена Сергея Уточкина, который стремился к развитию русской авиации, он пожертвовал 2 тыс. рублей на создание авиашколы для обучения новых пилотов, а МОВ обратилось в штаб военного округа с ходатайством о выделении на Ходынском поле участка под аэродром. Все вопросы довольно скоро были решены, и 17 июня 1910 г. совет Общества сообщил общему собранию «о полном решении вопроса с землей», то есть будущий аэродром был привязан к конкретному месту - Ходынскому полю. Да, лучшего места в Москве нечего было желать: обширность территории, близость к городу, достаточно удобное транспортное сообщение. Из центра почти к воротам поля следовал трамвайный маршрут № 6. Этот первый аэродром в основном сооружался на общественные деньги - поступлений от энтузиастов Воздушного флота. Строительство началось со взлетно-посадочной полосы и шести ангаров, крошечных по нашим меркам: на 1-2 самолета. Одним из первых помещение на два летательных аппарата потребовал С. Уточкин, который решил обосноваться в Москве. Вернувшемуся «после обучения полетам» из Франции Борису Россинскому городские власти разрешили поставить ангар для его самолета "Блерио ХI». Одним из ангаров на два аппарата владел известный московский молокоторговец Чичкин. В Москве только и были молочные магазины Чичкина и Бландова с действительно превосходными продуктами. После революции Чичкин забросил самолет, но стал помогать новой власти налаживать сыроварение. Самый большой ангар поставил завод «Дукс», ранее выпускавший велосипеды, а затем летательную технику. Между ангарами втиснуты были ящики от самолетов. В них мотористы с помощью пилотов перебирали моторы своих аэропланов. Для смазки моторов использовали касторовое масло, которое покупали в ближайшей аптеке. Бензин брали у Нобиля - его привозили в дубовых бочках. В полет летчики одевали жесткие каски, обтянутые кожей. Прозрачных козырьков на аэроплане еще не было, и брызги касторки с моторов летели в физиономию. Итак, на новом аэродроме жизнь била ключом. В «Бюллетене МОВ» с гордостью писали: «Теперь не узнаешь прежде пустынного уголка Ходынки, отведенного под аэродром Общества. По линии шоссе по направлению к Всехсвятской роще тянется ряд ангаров, уже выстроенных или еще строящихся. Через центральный въезд (против Стельны) попадаешь к трибунам, которых пока две. Трибуны легкого типа, длиной по 50 сажень, с крытыми ложами наверху. Они рассчитаны на 3000 человек». В проходных воротах стоял вахтер и спрашивал: «Пропуск есть?» Отвечать можно было что угодно. Во всех случаях звучало одно и то же: «Ну, проходите». Официальное открытие аэродрома состоялось 3 октября 1910 г. в присутствии большого числа чиновных лиц, генералитета. Для показательных полетов были приглашены известные русские авиаторы. 15 октября состоялся первый московский «дальний» перелет. Летчик М. Ефимов на самолете «Блерио ХI», сделав круг над аэродромом, улетел вдаль. Вскоре стало известно, что Ефимов попал в облака, заблудился и сел возле деревни Черемушки. Перелет длиной около 20 верст стал одним из самых дальних в России в 1910 г. Наступившие морозы заставили прекратить полеты. Ходынское поле до эры авиации было главным местом московских армейских парадов, на которых постоянно присутствовали российские императоры со свитой и высокими иноземными гостями. Проводились они обычно после летних маневров или каких-то событий. Последний такой крупный государев смотр войскам состоялся в конце августа 1912 г., по случаю 100 - летия Бородинской битвы. Трибуны Ходынского аэродрома были заполнены до отказа, почетных гостей разместили в двух ложах. В праздничном смотре приняли участие 40 тыс. войск всех родов! В период мировой войны на Ходынском аэродроме была открыта первая отечественная школа летчиков, которая подготовила немало отважных пилотов. Несовершенство техники тех дней, ошибки в пилотировании нередко приводили к трагичному финалу. Как свидетельствовал известный летчик К.К. Арцеулов, когда он приехал в 1915 г. с фронта на Ходынку испытывать первую партию истребителей производства завода «Дукс», с воздуха он обратил внимание на ярко-красные пятна, разбросанные по летному полю. Оказывается, среди травы целыми семействами здесь гнездились алые гвоздики - их сеяли на месте гибели авиатора. И немного мажорных нот из далекого 15-го года. Примечательностью Ходынского аэродрома стал необычный ангар, его возвели на деньги Василия Васильевича Прохорова, родственника известного мануфактурщика. На крыше этого сооружения высился застекленный павильон, устланный коврами, украшенный картинами. Был в нем и великолепный буфет. В этом салоне перед огромным стеклом с обзором всего поля стояли кресла для гостей. Сюда весьма часто заглядывали К. Станиславский и В. Немирович-Данченко. Над павильоном возвышалась статуя Икара, а в ангаре сиротливо стоял единственный «Моран» с мотором в 60 л. с. По крылу аэроплана огромными буквами значилось: «Прохоровъ», этот свободный художник летал редко и малоудачно. Невдалеке от авиатора-поэта солидно возвышался ангар авиазавода «Дукс», на нем тоже был павильон для наблюдений, но все скромно и добротно. Гостями «Дукса» были люди делового мира, военные. После гражданской войны начался впечатляющий расцвет Ходынки, а с ней и советской авиации, тогда же было признано «исключительное значение Ходынки для нужд авиации». Ходынское поле признали «...весьма подходящим для создания Главного аэродрома Воздушного Флота». Более того, в 1920 г. официальная хроника дополнительно известила, что «местом для создания опытного аэродрома страны опять же избрана Ходынка». Только перечисление невероятного рабочего авиаобъема Ходынки займет не один солидный том, Коснемся хоть нескольких эпизодов тех лет - здесь что ни день, то «впервые стартовал», «успешно испытан», «установлен рекорд». Первый праздник Воздушного Флота состоялся 2 августа 1920 г., в параде участвовало всего несколько самолетов, но зато «лучшие красные орлы, герои гражданской войны» продемонстрировали отличную технику пилотирования. Довольно любопытна попытка участия авиации в рекламных акциях тех дней, М. Булгаков в очерке «Торговый ренессанс» упоминает: «Осенью (1921 г.) самолеты авиационной группы «Воздушный Флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб, на новые дензнаки». Продолжим хронологию аэродрома. 3 мая 1922 г. - начало полетов по маршруту Москва - Кенигсберг - Берлин. Компания совместная - Германия - СССР «Дерулюфт». Важно, что окно в Европу приоткрылооь. 15 июля 1923 г. по решению Совета Труда и Обороны состоялись первые регулярные пассажирские полеты Москва - Нижний Новгород. Путь в 420 км совершался за 2,5 часа. Обслуживал линию четырехместный самолет «АК- 1», моноплан конструкции Александрова и Калинина. На билете первой линии Аэрофлота было написано: «Пассажир обязан следить при полете за колесами самолета и в случае неполадки докладывать летчику». Сегодня это кажется невероятным, но тогда пассажир обязан был помогать летчику, который не мог оторвать рук от штурвала, а необходимых приборов и датчиков просто не существовало. Родоначальник всех металлических самолетов нашей страны «АНТ- 2» конструктора Андрея Николаевича Туполева совершил первый полет 26 мая 1924 г. на Ходынском аэродроме. В марте 1923 г. энтузиасты авиации создали Добровольное общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ). Задачи Общества выражал лозунг: «Трудовой народ - строй Воздушный Флот!» В последующие годы ОДВФ оказало правительству реальную помощь в создании мощной авиации. Праздники членов ОДВФ, полеты агитэскадрильи постоянно проходили на Ходынском аэродроме. В том же 1923 г. было учреждено общество «Добролет» - будущее Министерство гражданской авиации. Долгие годы Центральный - бывший Ходынский, Главный аэродром, получивший имя М.В. Фрунзе, имел неказистое, маловместительное здание аэропорта. Вновь созданный «Добролет» решил объединить усилия Осоавиахима, Укрвоздухпути и даже немцев («Дерулюфт» долгое время имел на Ходынке свои ангары) и построить совместно крупный аэропорт. Но вышло как у Крылова: рак да щука. И только к ноябрю 1931 г. на Ходынке был сдан первый в СССР аэропорт, в то время один из самых больших в мире. Не случайно и ближайшая станция метро была наименована - «Аэропорт». Кстати, этот долгожитель, несмотря на развитие авиалиний, только к январю 1966 г. был заменен современным зданием городского аэровокзала. Ходынский аэродром - сгусток отечественной авиационной истории. Это поле принимало всех наших легендарных пилотов, отсюда взлетали первые российские аэропланы, здесь закладывались ведущие авиационные и ракетные КБ -Поликарпова, Микояна, Яковлева, Ильюшина, Сухого, Лавочкина. Здесь встречали и провожали многих наших великих современников. Именно здесь в Отечественную войну формировались воинские соединения. Сюда утром 9 мая 1945 г. летчик А.И. Семенков доставил акт о безоговорочной капитуляции Германии, а затем прилетело и знамя Победы. Юлиан Толстов <--к списку статей--<< |
|
Об этом неординарном человеке наша газета уже писала («МОЖ» №28, 27.07.96 – «Первопроходцы: фон Мекк-сын»). Автор той публикации нашел новые архивные материалы о последних годах жизни одного из основателей Московской железной дороги, по инициативе которого, кстати, было возведено здание нынешнего Управления МЖД на Краснопрудной, 20. В архивных документах ОГПУ-НКВД не раз упоминался «Особый коридор» Бутырской тюрьмы, где в строгой изоляции содержались политические подследственные, представляешие, по мнению органов, серьезную опастность для государства. Среди таких «ниспровергателей» здесь в 20-х годах числился и Николай Карлович Мекк (1863-1929), бывший председатель правления Московско-Казанской железной дороги. Фамилия предпринимателей фон Мекков была достаточно хорошо известна в России. Обрусевшие немцы, они немало вложили труда, знаний, деловой хватки в развитие отечественных железных дорог. Известные магистрали: Московско-Казанская, Курско-Киевская, Ландварово-Роменская, Рязанско-Козловская, изыскательская работа на Московско-Смоленской и многие друrие тесно связаны с деятельностью этой семьи. Особо следует остановиться на роли Н. К. фон Мекка в деле развития «Казанки», правление которой он возглавлял долгих 26 лет, до ареста в 1918 году. С небольшого участка пути в 117 верст Московско-Казанская выросла в обширную железнодорожную сеть, покрывшую своими путями земельные пространства, размером превосходящие целые государства Западной Европы. Эта дорога одна из первых в России стала развивать дачное и пригородное сообщение. Как умный и дальновидный руководитель, Н.К. фон Мекк оказывал максимальную поддержку инженерной мысли, подбирал творческие кадры и хорошо им платил. Дорога стала своеобразной лабораторией, полигоном новой техники. Помимо усовершенствованных паровозов, на «Казанке» появились и такие новинки, как вагоны-холодильники, а также целый холодильник-склад. На дороге достаточно солидно готовились и кадры среднего звена. По указанию Николая Карловича на Нижней Красносельской, 39 было построено большое кирпичное здание в три этажа - самое крупное в Москве железнодорожное техническое училище с отличным оборудованием. В 30-х годах там располагался техникум тяги, а затем здание вошло составной частью в солидный «почтовый ящик» (так наз. «САМ»). Естественно, Н.К. фон Мекк, будучи человеком своего времени, не упускал случая увеличить личное состояние. Однако после 1905 года волей-неволей руководству дороги пришлось пересмотреть отношение к социальным вопросам: стали больше строить благоустроенного жилья для работников, создали потребительскую кооперацию, ввели вагоны-лавки. С именем председателя правления связаны и такие масштабные столичные сооружения, как комплекс Казанского вокзала, воплощенного окончательно лишь в наши дни; великолепное здание управления Московско-Казанской дороги, что оформлял известный архитектор А.И.Таманов (Таманян). Ныне здесь находится Управление МЖД. С началом первой мировой войны Московско-Казанская приобрела особенно важное значение: по ней шли воинские перевозки, доставка продовольствия в вагонах-холодильниках из Сибири, Поволжья. Не случайно фон Мекк дополнительно ко всем его постам был назначен еще и уполномоченным Министерства земледелия. Увы, после октября 1917 года фон Мекк как «контра» был арестован, сидел на Лубянке, но из-за отсутствия улик вскоре выпущен. Тогда судьба его миловала, к стенке его поставят позже, через 12 лет. Следует отметить, что, будучи лишен значительного состояния, он не стал проклинать на всех углах советскую власть, продолжал работать, много и упорно думал над перспективой развития железных дорог России уже в новых условиях, писал статьи. Одна из них: «Экономика транспорта и ее перспективы в нашем Отечестве» написана в 1921 году, когда Николай Карлович только-только вышел из ЧК, а подвергался он этой «профилактической процедуре» неоднократно. Наверное, не каждый после отсидки в ЧК возьмется за перо, дабы анализировать, рекомендовать, искать пути выхода государственной экономики из тупика разрухи. Последние статьи относятся к 1927 году. Выходивший тогда журнал «Плановое хозяйство» поместил глубокие, перспективные работы фон Мекка, «Будущие пути Сибири» и «Тепловоз, его экономические и технические достижения». И это в те дни, когда тепловоз делал еще робкие шаги на транспорте. Такова вкратце канва жизни этого узника Бутырок. Естественное для историка стремление узнать поподробнее о судьбе Н.К. фон Мекка привело меня несколько месяцев назад на квартиру к его внучке - Татьяне Алексеевне Себенцовой. В тесненькой, хрущевской планировки квартире, - старинная мебель, массивные книги, множество фотографий на стенах. Хозяйка квартиры - миниатюрная, хрупкая, необыкновенно подвижная - раскладывает на столе стопочку семейных карточек, чудом сохранившихся после ареста Николая Карловича, папку с документами, какой-то удивительный складень с фотопортретами родных и приглашает к разговору. К великому счастью, прошедшие годы, подкосив здоровье, пощадили память - светлую, цепкую на факты, события, имена: оживленный разговор наш не прерывался до вечера. Знаменитый дед, судьба его семьи оставили в этом доме глубокий след. Первой демонстрируется уникальная вещь: «Поколенная роспись» дворянского рода фон Мекков издания 1909 года. Вспомним поговорку - знает всех до седьмого колена, а тут даны поколения за несколько веков! Наверняка любая наша семья многое бы отдала за подобную фамильную хронологию, а то все числимся «не помнящими родства». Затем зашел разговор о судьбе семьи деда: оба его сына погибли на фронтах тех лет, дочери - репрессированы. Негромкая рассудительная речь, мягкий облик собеседницы как-то приглушили остроту темы. Немногие материалы семейного архива хранятся в величайшем порядке. Вот один из них, что вызвал неподдельный интерес: «Трудовой список» - документ, равный нашей трудовой книжке. Этот «список» объективный свидетель рабочего университета, что фон Мекк прошел на Николаевской ж.д. за 1883-1891 годы. Будучи юристом по образованию, Николай Карлович, готовясь к железнодорожной карьере, начал с конторщика службы движения, затем был таксировщиком, дежурным по станции. Изучив паровоз, около трех лет ездил помощником, а затем и машинистом. Небольшое отступление. Работая в советское время в НКПС, фон Мекк не упускал случая по дороге на дачу проехаться в будке машиниста. Словом, только после многолетней практики Николай Карлович стал членом, а затем и председателем правления Московско-Казанской дороги, где и чувствовал себя уверенно и прочно. Революцию фон Мекк не принял, но служил новой власти добросовестно. Владея тремя европейскими языками, он постоянно изучал техническую литературу и в марте 1919 года был назначен зав. отделом экспертизы экспериментального института НКПС. На службе однажды он спокойно поделился мыслью, что возможна и реставрация старого строя, за что в мае того же года был арестован ВЧК. К слову, сентенция фон Мекка не была новостью: об этом писали в газетах, говорили в очередях за хлебом, ведь Деникин взял Орел и подходил к Туле. Об этом же мы позднее читали и в приснопамятной «Истории ВКП(б)»: «Да, реставрация была весьма вероятной». Но это было потом. А пока пришлось сидеть в камере за крамолу. После выхода из тюрьмы Н.К.Мекк не прозябал на задворках жизни. В его «Трудовом списке» появляется запись: консультант в Управлении делами ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) и одновременно - в Финансово-хозяйственном управлении НКПС. Весной 1921 года последовал очередной арест 58-летнего специалиста. В архиве ВЧК при СНК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности - затем эта организация стала именоваться ОГПУ (Объединенное Государственное Политическое Управление) - хранится «Дело № 9065 по обвинению Мекк Николая Карловича» от 30 марта 1921 года. Интересно, что это «Дело» ВЧК заполнено массой документов, характеризующих объем участия Мекка в делах и планах самых различных организаций. Среди них приглашение на заседание к наркому путей сообщения Троцкому, где среди прочих присутствовал и начальник Транспортного ЧК НКПС Фомин, который, возможно, сидел рядом с «вредителем Мекком». Нашлось даже место для такой маленькой, но весомой справочки: «Сводка о сверхурочных часах работы консультанта Н.К.Мекка за июль 1920 года - 50 часов»! А следом - объемистая, на нескольких листах записка группы транспортников (в числе которых и фон Мекк) от 8 июля 1920 года по поводу восстановления транспорта и будущего железных дорог России. Документ деловой, патриотический, интересный для понимания той эпохи. В деле нередки автографы Дзержинского. В частности, после изучения этих материалов он дает поручение зам. наркома НКПС Благонравову: «На заключение. 17 мая 1921 г» Судя по всему, наркомат дал положительное заключение, поэтому президиум ВЧК постановил: «Мекк Н.К. из-под стражи освободить под условием о невыезде из гор. Москвы, дело следствием ПРОДЛИТЬ». Вот в этой строке и была заложена вся будущая трагедия Мекка: мол, по социальному положению он враг, а посему следует держать его на мушке! Николай Карлович был лишен права занимать какие-либо должности по непосредственной работе в НКПС, кроме агрономического управления, куда его брал все тот же Благонравов. Однако, несмотря на грозные запреты, в «Трудовом списке», что хранится в Центральном архиве МПС, значится, что с 1 августа 1924 года фон Мекк «ст. консультант при НКПС и по совместительству консультант экономбюро при наркоме путей сообщения», то есть опять в гуще железнодорожных дел. В рассказе внучки Н.К.Мекка - Татьяны Алексеевны - обо всех этих арестах, хлопотах по освобождению, обращении его жены к самому Ленину (письмо это, кстати, опубликовано в сборнике «В.ИЛенин и ВЧК», документ № 219), тяготах семьи «лишенца» - поражала не сенсационность информации, а какая-то даже будничность: арестовали - посадили - выпустили. То был перелом двух эпох, на фоне которого развертывались трагедии тысяч и тысяч людей. В свои последние четыре года на свободе Николай Карлович много писал, публиковал статьи, участвовал в различных семинарах и комиссиях, активно выступал с лекциями - его и арестовали после одной из них. Рассказ о последних днях всегда труден: вот оно, роковое «Дело» с расстрельным итогом -«ОГПУ. Особый архив. № 529197». Подпись ядовито-зелеными чернилами - «зам. пред.ОГПУ Г.Ягода». Весьма скоро подследственный Мекк достаточно наглядно ознакомился с репрессивными методами органов. Среди «заговоров классового врага» наиболее ходовыми тогда были «вражеская деятельность» и «вредительские организации», но чаще всего это был миф, черный вымысел: подобных организаций просто не было! Вместе с тем, попавшим в эту обойму высшая мера была предопределена с первого часа: как это так, враги, и вдруг будут гулять по свету? Коль скоро Мекк был «изобличен свидетельскими показаниями», то его привлекли в качестве обвиняемого по СТ. 58 П. 7 Уголовного кодекса. На этом постановлении синими чернилами крупным почерком выведено: «Читал. Н.К.Мекк. 30-VII- 28». Невероятно трудно было ему, бывшему крупному предпринимателю, разобраться в диалектике иного государственного развития, становлении малопонятной идеологии. Последние месяцы своей жизни он провел в строгорежимном «Особом коридоре» Бутырской тюрьмы, в атмосфере боли, неутешных моральных страданий. Следствие было закончено, наступила какая-то отрешенность, не обрадовало и возвращение пенсне: без очков он был беспомощен. Согревали душу передачи с воли. В деле аккуратно подшита пачечка бланков ОГПУ о разрешении каждой передачи и обязательная фраза на обороте: «Передачу получил. Мекк» и дата. Последний кусочек колбасы он получил за 10 дней до смерти, на этом связь с родными оборвалась. Утверждают, что Николай Карлович мечтал еще о нескольких годах работы, новых статьях и встречах со студентами, но судьба не дала ему этих лет. Точку в жизни поставил приговор: «От Объединенного Государственного Политического Управления. ОГПУ раскрыты контрреволюционные организации на железнодорожном транспорте и в золото-платиновой промышленности Союза, поставившие себе целью свержение советской власти, помощь иностранным интервентам и восстановление в стране капиталистического строя. Своей цели они добивались путем вредительства и дезорганизации этих отраслей народного хозяйства. Идеологическими вдохновителями и практическими руководителями в них были: По контрреволюционной организации на транспорте: Фон-Мекк Н.К. - бывший потомственный дворянин, бывший председатель правления общества частной Московско-Казанской железной дороги, ее крупнейший акционер. В последнее время начальник экономической секции центрально-планового управления НКПС ...
Это сообщение было опубликовано на первой странице газеты «Известия» как важнейшая для страны новость, как гвоздь номера! В последующие годы ОГПУ от «гласности» отказалось, стреляли без оповещения в печати, да и места бы расстрельные списки занимали много . ... Прошли годы, но имя его оставалось попранным. Лишь в августе 1990 года Военная коллегия Верховного суда страны полностью реабилитировала Николая Карловича Мекка: дело, как многие, оказалось дутым. Человек пострадал безвинно. Мир его праху! Естественно, историю транспорта, так же, как и общую историю, не следует ни ухудшать, ни приукрашивать. Политическая реабилитация не означает амнистии всех деяний Мекка, но в главном - отношении к стране, нежелании принести ей урон - он оправдан. Сегодня выросло поколение, которое, думается, мало слышало о Ф.Чижове, П.Губонине, С.Полякове, Струве, И.Бусурине, В.Кокореве, заложивших (каждый!) свой камень в фундамент русского железнодорожного транспорта. Убежден, о них обязательно следует рассказать. Данную же статью можно рассматривать как своего рода некролог, посвященный одному из них. |
источник: http://www.tolstov-heritage.ru/publ/uznik_butyrskikh_kazematov/1-1-0-86 автор: Юлиан Толстов
<--к списку статей--<<