История рода Фон Мекк
Новый проект ЦМЖТ "Семейное достояние. Гордость России."
Открывается проект выставкой из частной коллекции Д.А. фон Мекка
Здравствуйте! Спасибо Вам за интерес к истории России!
Большинство музыковедов мира утверждают, что тот объем гениального наследия Чайковского,
который занимает столь важное место в мировой культуре, не был бы столь масштабным, если
бы не всесторонняя поддержка Петра Ильича Надеждой Филаретовной фон Мекк.
А почему мы заговорили об этом в железнодорожном музее?
Потому, что ее муж - Карл Федорович фон Мекк был первопроходцем строительства железных дорог,
построившим несколько частных дорог и заработавший своим рачительным и профессиональным
отношением к работе очень серьезный капитал. Вся семья фон Мекков тратила значительную часть
доходов на благотворительность и меценатство.
Многие близкие к истории музыки прекрасно знают, что Надежда Филаретовна в течение 14 лет состояла
в очень глубокой, доверительной переписке с Петром Ильичом. Эта переписка — более 1200 писем —
самое крупное эпистолярное наследие в истории России. Именно она нашла тот редкий душевный «ключик»
к тонкой душе Гения и благодаря ей он мог творить, не отвлекаясь на быт, работу, хлопоты.
Кроме того Надеждой Филаретовной был назначен Петру Ильичу ежегодный пансион в 6.000 рублей,
что в те годы было в два раза больше годового денежного довольствия военного министра Империи.
В дополнение, ею спонсировались все заграничные поездки, в которых по приезду Петр Ильич находил
приготовленное комфортное жилье, соответствующие его таланту марки фортепьяно, большие нотные
библиотеки и даже нотную бумагу и перья. Оказывалась помощь во включении его произведений
в концертные программы Европы. Тем кто знаком с этой интереснейшей перепиской, а заодно и летописью
жизни нашей страны за несколько лет, известно, что переписка прекратилась за два года до их смерти.
А ушли из жизни они с разницей в 2 месяца.
Однако мало кому известны два факта:
а) они породнились — сын Надежды Филаретовны Николай Карлович
познакомился в Каменке (да-да, той самой — декабристы, Пушкин…) с
племянницей Петра Ильича Анной Львовной (дочерью сестры
композитора Александры Ильиничны) и возникла счастливая,
многодетная, любящая семья, Петра Ильич очень дружил с ними, бывал
в гостях в их имении Копылово.
б) за 2-3 месяца до смерти Петр Ильич попросил свою племянницу Анну
Львовну фон Мекк передать слова сожаления об обрыве отношений
Надежде Филаретовне и в ответ получил ее слова, что она тоже очень
страдает эти годы, но относится к нему все также с любовью. Услышав
это Петр Ильич прибежал к близкому другу Кашкину и сказал: «Я так
рад, я помирился с мадам фон Мекк!»
Денис фон Мекк - потомок родов фон Мекк и Чайковских, чьи
прародители отмечены в пункте а) изучает семейную историю, работает
в архивах, музеях, читает лекции, ведет сайт www.von-meck.info , снимает
фильмы и издает книги, а также коллекционирует многое, относящееся к
семейной истории.
Учредил международный благотворительный фонд имени Надежды Филаретовны
Приходите с 9 по 20 апреля в Цетральный Музей железнодорохного транспорта
Санкт Петербург, ул. Садовая, дом 50 (метро Спасская)
фото ниже с прошлогодней выставки в доме-музее П.И. Чайковского в Клину




柴可夫斯基和梅克夫人的关系
在柴可夫斯基短暂悲怆而又华丽的一生中,尤其实在柴可夫斯基最后的13年里,
柴可夫斯基和梅克夫人柏拉图式的爱情长跑在世界音乐史上的美好爱情故事一直被人们流传下来。
即使梅克夫人不是伟大的音乐家,但是她对柴可夫斯基后期的创作,无论从精神上还是在情谊上都有着很大的影响。

柴可夫斯基雕像
梅克夫人是一位富人的遗孀,她继承了富商的遗产,生活富足殷实,她很喜欢音乐,当她听到柴可夫斯基的音乐,
让她寂寞不安的生活找到了精神寄托,他也被柴可夫斯基吸引,对柴可夫斯基的音乐才华开始迷恋。
那个时候柴可夫斯基正陷入窘困的生活状态,甚至都难以维持生活。梅克夫人开始资助柴可夫斯基,
开始跟柴可夫斯基书信往来。
随后两个人开始频繁的进行书信交往,也进行着思想的交流和精神的碰撞。但是柴可夫斯基和梅克夫人从来没有见过一面。
因为柴可夫斯基相信他们的交往是崇高而神圣的,而这种感情一旦被社会现实掺杂进来就是肮脏的。
柴可夫斯基充实了梅克夫人的灵魂,梅克夫人也走进了柴可夫斯基的精神世界,同时为他提供了生活保障,
让这位伟大的音乐家可以充分发挥自己的才华。
柴可夫斯基和梅克夫人柏拉图式的爱情是高尚的,梅克夫人在柴可夫斯基精神和生活都处在极度困难的时候,
她给他提供了一个庇护所,而在梅克夫人寂寞无奈的时候,柴可夫斯基的音乐给她精神世界带来了巨大的满足感,
两个人的爱情长跑是不容一丝玷污的。
http://www.lishiquwen.com/news/116712.html
旷世绝恋
19世纪70年代末期,柴可夫斯基在老师鲁宾斯坦的介绍下认识了俄国铁路大企业家梅克的遗孀梅克夫人。因为欣赏柴可夫斯基的音乐才华,梅克夫人开始与他通信,并按期给他生活费用,彼此交往长达13年。柴可夫斯基曾在信中对她说道:我笔尖下的每一个音符,全都是呈献给你的。我对工作的热爱得以再次苏醒,完全是你的功劳。 如果命运之神不把你派到我这里来,我会变成什么样子呢?想到这一点,我不禁不寒而栗。一切都是你所赐:生命、追求自由的机会(那至今犹未实现的雄心)以及那连做梦都没有碰到过的、接踵而至的好运道。
梅克夫人曾委托柴可夫斯基作曲,在他经济困难时,还给予特别的酬劳。柴可夫斯基为感激她,写了一首第四交响曲,这部作品后来在他和娜德朱塔的信件中,昵称为我们两人的交响曲。
梅克夫人成就了柴可夫斯基不朽的作品,这样说并不只是因为她慷慨地给予作曲家十余年如一日的经济资助,更难能可贵的是她对音乐家作品的理解和带给音乐家的心灵慰藉。没有她,就没有热情的《第四交响曲》和悲怆的《第六交响曲》,是她让柴可夫斯基走出了贫困和失落的黑暗阴影,是她唤醒了柴可夫斯基创作的灵感和激情。
后来,梅克夫人对音乐家的资助因家族出现金融危机遭到子女们强烈反对而中止。柴可夫斯基虽然很快熬过了经济上的难关,但因失去梅克夫人的音讯而造成的精神上的创伤却一直都没有愈合。在成功结束美国的巡回演出返回俄罗斯之后不久,柴可夫斯基就病故了,而染上忧郁症的梅克夫人则在精神病院里孤独地度过了自己的晚年。
http://www.lishiquwen.com/news/122941.html
柴可夫斯基和梅克夫人的爱情
和世上所有精神爱情一样,柴可夫斯基与梅克夫人也源于不小心的邂逅。在1876年底的一天,莫斯科音乐学院院长,钢琴家尼古拉·鲁宾斯坦在梅克夫人的客厅里弹奏了柴科夫斯基的《暴风雨》。梅克夫人听了之后非常激动,心灵受到了极大震撼。就这样,音乐使梅克夫人与柴可夫斯基宿命般地相识,他们之间便搭起了沟通的桥梁。仁慈美丽,聪慧绝顶一位富商的遗孀梅克夫人以她的冰雪聪明和女性的善解人意很快贏得了柴可夫斯基完全的信任。她提出请柴可夫斯基为她作曲,每月支取一笔可观的稿费;这样既解决了柴的生活压力,又不伤害其自尊心---唯一的条件是永不见面。自此,他们的通信,犹如不灭的火焰,燃烧在莫斯科漫长的冬夜,以不懈的执着,期待着春天的来临。
可以说,柴可夫斯基与梅克夫人之间的爱情,是世上演绎柏拉图精神之爱的绝版经典。他们长达13年的结识,以及频繁的信件交往中,并没有寻求谋面的机会,虽然很多时候,他们近在咫尺。他们在圣彼得堡住的地方仅仅相隔一片草地。他们可以互相听到歌声、琴声,真切感受到对方的存在;每天,当柴可夫斯基去镇上寄信时,都要从梅克夫人居住的地主经过,有时甚至还能够清晰地听见她那迷人的欢声笑语。然而,音乐家始终没有踏入恋人的房舍一步,让自己走到她的身边。
但是,从另外方面看,即使他们纯洁脱俗的爱,延续了十三年之久,但最终还是绕不过世俗世界的风雨摧残。
柴可夫斯基告诉他的兄弟,他正在创作一支新的交响曲,他的第六交响曲。这将是一首葬礼挽歌,一首为失去的友谊谱写的告别曲。它的旋律之美常使他热泪盈眶。“我相信这是我迄今为止最好的作品,反正,我知道,它是最诚挚的。”他必须给它一个特殊的标题——能表达内心……表达他所忍受的无法忍受的痛苦的标题。《悲剧交响曲》?《泪之交响曲》?不,太平凡了。最后,对他十分了解的兄弟莫迪亚,建议用《悲怆》这个名字。
Тайный визит Петра Чайковского
к Людвигу II Баварскому
…Все четыре дня в резиденции Людвига II в Нойшванштайне Чайковский настолько взволнован, что не может сомкнуть глаз. По его словам, он будто на небесах. Образ Людвига не выходит у него из головы ни на минуту.
Кто этот баварский король? Уж не Христос ли, царь царей, небесный помазанник? Никого духовней, мирней, мудрей, прекрасней, добрей, милосердней он не видел и никогда не увидит! Высочайший аристократ, король Баварский предлагает ему нежную и горячую дружбу на века и готов едва ли не умереть за своего нового друга…
Четыре дня перешли в вечность, промелькнули как четыре минуты.
Спустя 10 лет после той встречи Людвиг погибнет в том самом замке Нойшванштайн, одном из самых таинственных мест на земле (как полагают, вход в святой Грааль). Чайковский будет сетовать, что предсказал его кончину в ‘Лебедином озере’: принц Зигфрид (помазанник, образ Людвига) уходит на дно баварского Святоозера в борьбе с черным двойником…
*
Впервые они встретились в королевской ложе байройтовского театра во время представления вагнеровского ‘Кольца нибелунгов’. В одном из антрактов Чайковский был представлен королю Баварии как корреспондент российской газеты и выдающийся композитор, ‘по направлению чем-то близкий Вагнеру’, как шепнули Людвигу.
Баварский король великолепно разбирался в музыке и был наслышан о Чайковском. Первая их беседа была краткой. Взглянув на Чайковского своим полным небесной любви взглядом, Людвиг спросил его:
– Что вы думаете о ‘Кольце нибелунгов’ Вагнера?
Чайковский ответил:
– Ваше величество, о такой величайшей драме можно сказать лучше.
Ответ русского композитора поразил Людвига, лично заинтересованного в том, чтобы преподнесенные им сюжеты из Святого Грааля нашли адекватное музыкальное выражение. Быстрый на решения, горячий сердцем Людвиг приглашает Чайковского сразу же после окончания вагнеровской премьеры в свою резиденцию.
Окружающие потрясены. Известно, Людвиг избегал встреч даже с высокопоставленными и царскими особами, а тут пригласил в свой замок какого-то корреспондента русской газеты. Опять сплетни, подозрения…
Уже первая их беседа обнаружила редкую общность взглядов.
– Мировым процессом движет, – утверждает Людвиг своему новому другу, – высшая любовь. Увы, человечество ее не знает. Но долг царей и правителей преподнести ее людям, чтобы она стала достоянием народов всей земли. Проявить небесную любовь миннэ на земле далеко не просто – для многих она послужит искушением. Большинство должны быть посвящены в ее таинственный культ и принять обет девства, научиться любить чисто, служить бескорыстно…
Чайковский буквально изнутри себя самого – не слушает – внемлет словам Людвига. Плачет прямо во время беседы. Вот тот друг, которого он искал всю жизнь! Кто бы мог подумать, что таким другом окажется баварский король, а местом их встречи – королевская резиденция в самом прекрасном замке на земле?
Нойшванштайн, Новый лебединый замок был построен по проекту Людвига по образу другого замка – Хохеншвангау, воздвигнутого в XII веке рыцарем Швангау, одним из любимых персонажей баварского помазанника. Позднее в этом замке-крепости укрывали катарских аристократов и тамплиеров высоких посвящений.
За эти четыре дня Чайковский точно обрел самого себя:
‘Я воистину оказался на небесах и не верю своим глазам. Всю жизнь стремился к братству и вот обрел настоящего брата! Сколько братьев в этой великолепной рыцарской обители! Какой чистоты и высоких благородных порывов полны эти баварские аристократы!
И впрямь, лучшие люди со всего мира приезжают к Людвигу. Король же настолько прост, что находится в духовном послушании у каждого из них: перенимает лучшие черты, тем самым постоянно обогащает свою внутреннюю сокровищницу’, – думает Чайковский в ночные часы отдыха после встреч с баварским королем.
Известно, Петр Ильич всегда стремился к братству. Вскоре после окончания университета он пишет на слова оды ‘К радости’ Шиллера кантату, посвященную всеобщему братству как всемирному и личному идеалу… И вот – кто бы мог подумать! – в далекой Баварии Чайковский обретает горячего верного друга на всю жизнь, на века. Им оказывается баварский король, самый прекрасный, мудрый и посвященный из всех августейших особ мира.
*
Сюжет ‘Лебединого озера’ увлек Чайковского в первый же день пребывания в Нойшванштайне. Прогуливаясь по замку, Чайковский услышал на озере… музыку святого Грааля.
Сам замок покрыт величайшей из тайн. Выйти на лебединое озеро просто так невозможно, должно сподобиться посвящения и получить предварительные инструкции.
Вид на озеро из окон замка потряс Чайковского: оно живое! Озеро точно дышит, над ним поднимаются какие-то странные парыo, и будто живые существа копошатся в нем. Плавающие лебеди – словно принявшие образ белых птиц рыцари… Позднее Чайковский признает: большинство граалевых сюжетов Вагнера (Лоэнгрин, Парсифаль, Тангейзер) напрямую навеяны композитору беседами с Людвигом II.
Людвиг буквально грезит ладьей, влекомой белым лебедем по Рейну. Святой Грааль для Людвига – олицетворение братства, свободы, равенства, чистоты, благородства, вечной жизни, доброты и всего лучшего, что только может проявиться на земле и в природе человеческой.
‘Король должен заботиться не только об экономической составляющей, но и о духовной стороне своих верноподданных, – говорит Людвиг в беседах с Чайковским. – Потому я решил преподнести людям самый прекрасный идеал, совершенное царство святого Грааля. Посмотрите на этот замок, – показывает Людвиг на Нойшванштайн, – этот замок вечен, он списан из царствия. Знаете ли вы о том, что такой же оригинальный Нойшванштайн покоится на дне лебединого озера?’
Чайковский просит разрешения сыграть новому другу. Он садится за рояль и наигрывает несколько тем. Людвиг в неописуемом восторге. Сравнивая Вагнера с Чайковским, король приходит к выводу: да, Вагнер гениален по-своему, его таинственная магическая сила чем-то действительно сродни рыцарским архетипам… Но Чайковский знает то, чего не знает Вагнер – миннэ. Когда Людвиг слышит тему из ‘Ромео и Джульетты’, позднее оформившуюся в побочную партию знаменитой увертюры-фантазии, он буквально сражен. ‘Вы были правы, – говорит он Чайковскому. – О ‘Кольце нибелунгов’ можно сказать лучше’.
Судьбы Чайковского и Людвига II исключительно схожи: обоих убивают римские агенты. Черный двойник, словно колдун из ‘Лебединого озера’, душит Людвига на озере рядом с замком, а Чайковскому подсыпают мышьяк. Везде та же самая рука римо-византийских спецслужб. Не промелькнул ли в сознании Чайковского в последние мучительные часы перехода в вечность образ Людвига II? Не услышал ли он слова: ‘Мой дорогой друг, смерти нет. Смерть только одно из высочайших посвящений для нас, помазанных в высокие тайны бытия’.
*
Вернемся к дням пребывания Чайковского в Нойшванштайне. Этот факт нигде не отражен, ведь к тому времени Людвиг уже был гоним и предпочитал не афишировать свои встречи с русским композитором. К тому же Чайковский был посвящен в высокие тайны, что удваивало необходимость конспирации.
Петр Ильич часами любуется замком. Иногда ему кажется, что это белый корабль, который вот-вот сдвинется с места и поплывет в направлении царства света… Чайковский замечает и нечто более странное: Людвиг ходит по лебединому озеру как по земле, в окружении белых лебедей. Белая лебедь – птица Белбога и БелБеры, пресвятой девы Богородицы. ‘Людвиг – баварский христос, а лебеди его белые невестушки’, – думает про своего нового друга Чайковский.
Людвиг обожает поэзию и сходу предлагает Чайковскому несколько потрясающих исторических сюжетов для будущих опер или балетов. В частных беседах он делится своим желанием реформировать Баварию по типу утонченного царства Святого Грааля. Король должен исполнить свое наивысшее назначение.
‘Экономических и даже культурных реформ мало. Я хочу преобразить страну, сделать ее самым счастливым царством всех времен. Святой Грааль это еще и царство небесное, на земле устроенное, о котором мечтал Христос. Оно существует не в сказках где-то, а рядом с нами. Вход в него лежит через лебединое озеро Нойшванштайн…’
Дивной красоты глаза Людвига горят небесным огнем… Чайковский потрясен. Людвиг II – живой христос! В нем ничего постыдного, низкого, человеческого, никаких страстей, магнитов и темных пристрастий. От его лика невозможно отвести глаз, на нем сияет неземная божественная красота, как если бы высочайшее из божеств сошло в мир и пребывало среди людей.
Их беседы изумительно трогательны. ‘Я ждал вас не одно десятилетие, – говорит Людвиг Чайковскому. – Вагнерский Байройт отныне ваш, оставайтесь здесь и творите во славу нашего Всевышнего’.
В своих беседах друзья затрагивают духовные темы о гиперборейских посвящениях, об архетипах… Оба полюбили друг друга бесконечно. Они не сказали друг другу ни одного ‘нет’, но только ‘да’ и обещали часто переписываться друг с другом, находясь по сути в неразлучном общении. Переписка, разумеется, тайная.
*
Чайковский сподобился высочайших посвящений. Его посвящение в баварское братство Хохеншвангау было почти мгновенным, подобно посвящению Моцарта в благородное братство Всемирного Доброжелательства Игнаца фон Борна.
Мало кто из гостей баварского короля в течение нескольких дней мог пройти столько высоких посвящений. Уже на второй день Чайковский был посвящен в рыцарство короля Артура. Людвиг собирает 40 рыцарей-девственников на братской трапезе в честь его нового друга в Белой зале, находящейся в подземном этаже, сокрытом от непосвященных. И совершается чудо…
Чайковский не верит своим глазам – не иллюзия ли это? Над озером появляется белая чаша, несомая великой богиней в окружении двенадцати рыцарей. Святой Грааль! – догадывается Петр Ильич. Святой Грааль, о котором столько говорил дорогой августейший друг! Богиня уходит и препоручает чашу своим двенадцати пажам, и те дают вкусить сладчайший напиток серафитов участникам трапезы…
После трапезы Святой Чаши водворялась атмосфера прекраснобытия. Рыцари оказывались точно в ином измерении. Расступалось пространство, и они уходили в озеро. Их забирали в царство Грааля, где они предавались дивным встречам и беседам с высочайшими из посвященных. Чайковский снова потрясен…
На второй день пребывания в замке Людвиг вводит Чайковского в свои сокровенные покои и показывает ему двенадцать богато инкрустированных жезлов Грааля – символ духовной власти посвященных в святую Чашу.
Третий день – посвящение в Святой Грааль как будущее человечества.
Четвертый день Людвиг оставляет для сокровенных бесед. Чайковский – один из самых дорогих его друзей, ему он может доверить то, что не может доверить другим.
Чайковский подробно расспрашивает Людвига: что подразумевает баварский король под Граалем? Существуют тысячи толкований, и Чайковский об этом прекрасно осведомлен.
Людвиг так отвечает своему русскому другу-композитору: ‘Святой Грааль – таинственная чаша всех времен и цивилизаций. Она несет в себе кровь помазанников несчетного множества светлых миров, существующих одновременно с нашим. Помазанник, зачастую сподобляясь мученического венца, оставляет свою последнюю каплю в Чаше, куда стекает все самое драгоценное и лучшее, что было в роде человеческом. Чаша бессмертна, и тот кто вкушает из нее, становится царского рода деспозинов’.
Скажем в скобках: ваш покорный слуга в 2002 году пролил свои два литра крови в Чашу после того как был отравлен в своей резиденции на Гефсимании. Матушка Евфросиния – три платочка кровавых после ночной псалтыри. Серафим Соловецкий выплакивал по три стакана слез за ночь…
Таков святой Грааль: не мифологически-абстрактный, а реальный, пребывающий среди нас. Святой Грааль в руках о.Иоанна – таинственная чаша, будь то серебряный кубок Иннокентия Балтского или мощи матушки Евфросинии. Самое драгоценное, что есть в человеке – его божественный мирровый бессмертный состав – стекает в Чашу и умножается.
Фонтан и фейерверк последних капель, вот что вкушают из Чаши помазанники.
*
Все четыре дня Людвиг не перестает говорить Чайковскому о Граале. Чаша вводит в вечную жизнь, и лебединый замок суть таинственный вход от земли в замок Святой Чаши, вход в бессмертие. ‘Возлюбленный мой, вы сподобились величайшего из посвящений. Вы вошли в Атлантиду, в царство вечной жизни’.
В ночь перед отъездом Чайковский опять видит танец-хоровод лебедей и таинственные видения над озером Нойшванштайна…
Композитор решает написать балет и запечатлеть в нем образ своего дорогого друга. Чайковский потрясен неземной красотой и духовностью девства Людвига.
Учение о черном двойнике, нашедшее выражение в сюжете ‘Лебединого озера’, было распространено среди рыцарей. Черный двойник каждого из посвященных – его ветхий человек со своими земными страстями и привязанностями. Но помимо личного черного двойника существует еще и всечеловеческий черный двойник – дьявол, притворяющийся другом. Находящийся в его власти в конечном счете погибает.
*
Любимая тема бесед Людвига с друзьями – небесная любовь, без которой запечатана тайна земли. Кто знает миннэ – посвящен, счастлив и мирен.
В конце четвертого дня, как бы в заключение их единственной неповторимой встречи, Людвиг открывает ящик письменного стола, вынимает один из музыкальных жезлов, который некогда преподнес Вагнеру, и дарит Чайковскому.
Людвиг говорит: ‘Вагнер слабо посвящен в святой Грааль. Он взял из сюжетов то, что мог воспринять на своей духовной ступени. Мы много раз пытались совершить с ним новые посвящения, но Рихард, по сути, отказался. Он слишком увлекся своими композициями и не воспринял важнейшее в Святом Граале – братскую любовь. Вы, мой дорогой друг, посвящены в тайны более высокие, и я ожидаю от вашей музыки большего, чем от опер нашего байройтского гения’.
‘Смею ли я подобно Вагнеру написать музыку на рыцарские сюжеты из святого Грааля, которые мне бесконечно близки и прекрасней которых я ничего не знаю?’ – спрашивает Чайковский у Людвига. Король премудро отвечает: ‘Не стоит в России говорить о Святом Граале в открытую. Выражайтесь символически, в симфонической музыке’.
Чайковский запоминает услышанное: об обретенных тайнах он должен говорить иносказательно. Позднее это найдет выражение в ‘Иоланте’, сюжете также близком к Святому Граалю.
Людвиг Баварский оказывает на Чайковского действие не меньшее, чем на Вагнера. По сути, слепил его духовно. Но Чайковский предпочитает молчать.
Король предупреждает своего друга: если об их встрече станет известно, Петра Ильича начнут травить, а травля может закончиться отравлением.
Так и вышло. За Людвигом наблюдали десятки дурных глаз. О встрече проведали, и в ведомство Бенкендорфа был дан сигнал.
Так оба предсказывают друг другу трагический уход, подобный смерти агнца. Отравление Чайковского и убийство Людвига II – действие одной и той же кровавой руки.
Чайковский позднее вспоминал услышанное из уст баварского короля сказание о 12 рыцарях. Некогда они сражались с драконом и победили его, но по совету нечестивых правителей были изгнаны и обратились в белых лебедей. Как близок этот иносказательный сюжет обоим нашим христам – августейшему и музыкальному!
*
Рыцарь святого Грааля, Людвиг Баварский имел мужество сражаться с Римом один на один. Сегодня он присоединится к нашему высокому катарско-тамплиерскому братству белых лебедей. Его желание превратить мир в новый Нойшванштайн, лебединый замок, наконец-то исполнится.
Из книги блаженного Иоанна "Четыре музыкальных христа"
Nadeshda von Meck
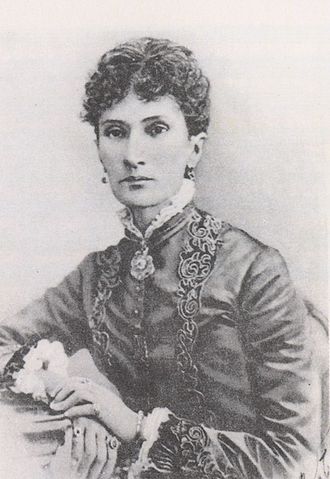 (orig.: Надежда Филаретовна фон Мекк) Geburtsname: Nadeshda Filaretowna Frolowskaja geb. in Snamenskoje, Gouvernement Smolenskgest. in Nizza, Nadeshda von Mecks Geburtsdaten nach dem Julianischen Kalender: * 10.02.1831, † 13.01.1894. Ena von Bauer und Hans Petzold nennen in „Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowsky in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ (Leipzig 1964, S. 659) Wiesbaden als Sterbeort.Mäzenin, Musik- und Kunstliebhaberin, Amateurpianistin
(orig.: Надежда Филаретовна фон Мекк) Geburtsname: Nadeshda Filaretowna Frolowskaja geb. in Snamenskoje, Gouvernement Smolenskgest. in Nizza, Nadeshda von Mecks Geburtsdaten nach dem Julianischen Kalender: * 10.02.1831, † 13.01.1894. Ena von Bauer und Hans Petzold nennen in „Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowsky in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ (Leipzig 1964, S. 659) Wiesbaden als Sterbeort.Mäzenin, Musik- und Kunstliebhaberin, Amateurpianistin
„Musik versetzt mich in einen Rauschzustand wie ein Glas Cherry, und diesen Zustand finde ich schön und erhaben. Geheimnisvoll wird man irgendwohin getrieben ins Rätselhafte, Unbekannte, in eine Welt entrückt, deren Zauber so groß ist, dass man in diesem Zustand zu sterben bereit wäre.“
(Nadeshda von Meck an Peter I. Tschaikowsky am 29. November (11. Dezember) 1877, in: Ena von Bauer, Hans Petzold (Hg.). Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck. Leipzig 1964, S. 123)
Profil
Nadeshda von Meck war eine berühmte Mäzenin und die Vertraute, Muse und Brieffreundin von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Später unterstützte sie auch andere Komponisten und Musiker wie Nikolaj Rubinstein, Henryk Wieniawski oder Claude Debussy.
Orte und Länder
Die unternehmerischen und gesellschaftlichen Aktivitäten der Familie von Meck entwickelten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts auf russischem Boden. Im Mittelpunkt von Nadeshda von Mecks Interesse als Mäzenin standen vor allem Musiker und Komponisten, darunter Peter I. Tschaikowsky und Nikolaj Rubinstein.
Biografie
Nadeshda Filaretowna von Meck stammte aus der Familie eines Grundbesitzers, Filaret Wassiljewitsch Frolowski, der mit den bekanntesten adligen Familien im Gouvernement Smolensk verwandt war und über etwa einen Hektar Landbesitz verfügte. Die Musikleidenschaft erbte Nadeshda Filaretowna von ihrem Vater, der Violine spielte. Ihre außerordentlichen Geschäftstüchtigkeit, einen starken Charakter, Ehrgeiz und Willenskraft verdankte sie offensichtlich ihrer Mutter, Anastassija Dimitrijewna, geb. Potjomkina. Nadeshda Filaretowna genoss eine für die damalige Adelsschicht typische häusliche Erziehung, zu der die Unterweisung in Manieren, Fremdsprachen, Literatur und Geschichte sowie Klavierunterricht gehörten.
Im Alter von siebzehn Jahren heiratete sie den Adligen Karl Fjodorowitsch (Karl Georg Otto) von Meck (1821-1876), dessen Vorfahren Ende des 16. Jahrhunderts aus Schlesien nach Livland ausgewandert waren. Im Laufe dieser Ehe wurden achtzehn Kinder geboren, von den elf das Erwachsenalter erreichten. Karl von Meck verdiente seinen Lebensunterhalt zunächst als Ingenieur und Bauinspektor der staatlichen Eisenbahnlinien im Westen Russlands. Diese sichere Stellung, die ihm wenig Eigeninitiative erlaubte, gab er jedoch auf, bestärkt durch seine tatkräftige Frau, die kein Risiko scheute und ihren Mann auch in geschäftlichen Dingen unterstützte. Die Familie, die zunächst sehr bescheiden gelebt hatte, genoss bald echten Luxus, nachdem sich Karl von Meck zu einem jener Magnaten entwickelt hatte, die der Politiker Sergej Juljewitsch Witte treffend als „Eisenbahnkönige Russlands“ bezeichnete. Von anderen Eisenbahnmagnaten hob sich Karl von Meck durch seine besondere Aufrichtigkeit ab. Sergej Witte, der sich verächtlich und sarkastisch über viele russische Unternehmer äußerte und sie für „kapitalistische Haifische“ hielt, beschrieb Karl von Meck indes als „sehr korrekten Deutschen“ (Sergej Jul’evič Vitte. Vospominanija [Erinnerungen], Bd. 1. Moskau 1960, S. 126).
Als Karl von Meck 1876 starb, hinterließ er seiner Frau ein Haus in Moskau, ein Landgut in Brailow (in der heutigen Ukraine), ein Vermögen von mehreren Millionen Rubel und die Kontrolle über zwei Eisenbahnlinien. Von nun an lebte Nadeshda von Meck sehr zurückgezogen. Sie verkaufte eine der Bahnlinien und leitete mit ihrem Bruder Alexander und dem ältesten Sohn Wladimir erfolgreich die andere. Das Leben der Großfamilie und die Erziehung der zahlreichen Kinder wurden von mehreren Hausangestellten, Dienern, Erziehern, Lehrern usw. unterstützt. Zu den Angestellten gehörte auch ein Musiker, der die Kinder unterrichtete und mit der Hausherrin musizierte. Der große Hausstand wurde von Nadeshda von Meck geführt und beherrscht.
Nadeshda von Meck ließ verschiedenen Musikern ihre Unterstützung zukommen. Zu diesem Kreis gehörte Nikolaj Rubinstein, dessen Talent die Mäzenin sehr bewunderte. 1880 war der schwer erkrankte Violinist und Komponist Henryk Wieniawski in ihrem Haus zu Gast. Im selben Jahr war Claude Debussy in ihrem Hause als Musiker und als ihr Klavierpartner angestellt, und er begleitete sie auf einer Reise in die Schweiz, nach Frankreich und Italien.
Im Mittelpunkt ihrer Musikleidenschaft stand das Schaffen von Peter Iljitsch Tschaikowsky, dessen Orchesterfantasie „Der Sturm“ op. 18 sie zutiefst beeindruckte. Nadeshda von Meck beauftragte 1876 den Komponisten durch seinen einstigen Theorieschüler, den Geiger Jossif Kotek, der zu jener Zeit bei ihr angestellt war, ein Stück für Violine und Klavier gegen ein großzügiges Honorar zu komponieren. Von Dezember 1876 an verband die beiden eine fast vierzehn Jahre währende, einzigartige Korrespondenz, in deren Verlauf 1204 Briefe gewechselt wurden. Dabei wurde verabredet, dass die Briefpartner auf persönliche Begegnungen verzichten würden. Bei vereinzelten zufälligen Begegnungen im Laufe dieser Zeit sah man sich nur von Ferne, man wechselte kein Wort miteinander. Dabei wurde Tschaikowsky mehrmals zu Besuchen auf die Landgüter Nadeshda von Mecks in Zeiten ihrer Abwesenheit eingeladen. Zudem hielten sich beide Korrespondenten gelegentlich zur gleichen Zeit an gleichen Orten im Ausland auf. Diese Aufenthalte wurden aber so geregelt, dass es nicht zu direkten Treffen kam. Der Zufall indes brachte es mit sich, dass sie zu „Verwandten“ wurden: 1883 heiratete ein Sohn Nadeshda von Mecks, Nikolaj (1863-1929), der später zu einem der bedeutendsten Eisenbahnunternehmer Russlands avancierte, Tschaikowskys Nichte Anna Lwowna Dawidowa (1864-1942).
Die großzügige materielle Unterstützung seitens Nadeshda von Mecks, die Tschaikowsky von Ende 1877 an eine Jahresrente von 6000 Rubel, eine gewaltige Summe zu jener Zeit, auszahlte, brachte dem Komponisten die finanzielle Unabhängigkeit. Sie ermöglichte ihm, seine ungeliebte Lehrtätigkeit am Moskauer Konservatorium aufzugeben und als freier Komponist zu leben, ins Ausland zu fahren und ein sehr komfortables Leben zu führen. Dank Nadeshda von Mecks Unterstützung konnte Tschaikowsky seine finanziellen Obliegenheiten in Folge seiner Scheidung regeln, was bedeutete, dass er nach der Beendigung der misslungenen Ehe keine weiteren Forderungen zu befürchten hatte.
Seine Dankbarkeit der großzügigen Gönnerin gegenüber bezeugte Tschaikowsky immer wieder; besonders bekannt wurde die Widmung seiner Symphonie Nr. 4 (1877) an „meinen Freund“ (der Verzicht auf die Namensnennung entsprach Nadeshda von Mecks Wunsch).
Nadeshda von Meck unterstützte den zu Depressionen neigenden Komponisten auch moralisch. Diese Freundschaft auf Distanz war von großer Bedeutung für den Komponisten und gab ihm zweifellos wichtigen Halt in der Zeit seiner schweren Krise Mitte bis Ende der 1870er Jahre, die ihn an die Grenze des Selbstmordes führte. Und auch später noch erwies sich die Brieffreundschaft als sehr fruchtbar für das Schaffen des Komponisten. Unter anderem ermutigte ihn Nadeshda von Meck dazu weiter zu komponieren, nachdem seine Symphonie Nr. 5 von Kritikern stark angegriffen worden war.
Nach bisherigem Wissensstand erhielt Tschaikowsky am 22. September (4. Oktober) 1890 einen (verschollenen) Brief von Nadeshda von Meck, in dem sie den Briefwechsel und die Rente für beendet erklärte. Der vermeintliche Grund für diese Entscheidung – schwere finanzielle Verluste – wird inzwischen bestritten. Ein anderer Grund, nämlich dass Nadeshda von Meck erst zu jenem Zeitpunkt von der Homosexualität Tschaikowskys erfahren hätte, erscheint ebenfalls unwahrscheinlich. Eher war diese Entscheidung möglicherweise durch die Tatsache beeinflusst, dass Tschaikowsky ab 1888 eine jährliche Rente von 3000 Rubel von Zar Alexander III. erhielt. Auch könnte der geschwächte Gesundheitszustand von Nadeshda von Mecks dazu geführt haben, dass sie die Kontrolle über ihre Geschäfte nicht mehr allein ausüben konnte und gezwungen war, den Forderungen ihrer Verwandten zu entsprechen, die zum Teil offensichtlich nicht mit der Auszahlung der Rente an Tschaikowsky einverstanden waren.
Bald nach dem Tod Tschaikowskys verstarb Nadeshda von Meck in Nizza an Tuberkulose. Ihrer Schwiegertochter Anna von Meck zu Folge konnte sie Tschaikowskys Tod nicht verwinden (Anthony Holden. Tchaikovsky: A Biography, N.Y., 1995, p. 401).
Würdigung
Die Korrespondenz zwischen Tschaikowsky und Nadeshda von Meck wurde in einer drei Bände umfassenden Briefsammlung erstmals 1934-1936 veröffentlicht (Čajkovskij, P. I. Perepiska s N. F. fon Mekk [Briefwechsel mit N. F. von Meck]. 3 Bde., hg. von W. A. Shdanow und N. T. Shegin. Moskau/Leningrad 1934-1936). Diese Ausgabe wurde 2004 in Moskau wieder abgedruckt (Čajkovskij i Nadežda Filaretovna fon Mekk. Perepiska v 3 tomach [Tschaikowski und Nadeshda Filaretovna von Meck. Briefwechsel in 3 Bänden]. Moskau 2004).
Die deutschsprachige Ausgabe von Ena von Bauer und Hans Petzold (Hg.), „Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ (Leipzig 1964) bietet eine sorgfältig getroffene Auswahl von Briefen, deren Übersetzung ein hohes Niveau hat. Diese Ausgabe stellt bis heute eine der wichtigsten Quellen für die deutschsprachige Tschaikowsky-Forschung dar.
„Tschaikowskis Beziehung zu Nadeshda Filaretowna von Meck hat etwas Einmaliges und findet in anderen Künstlerbiographien kaum eine Parallele“, so charakterisierte Constantin Floros die ungewöhnliche Brieffreundschaft (Constantin Floros. Peter Tschaikowsky. Reinbek 2006, S. 41). Für beide Korrespondenten war der Briefwechsel von großer Bedeutung, und er bietet sehr wertvolle Informationen sowohl zur Biografie des Komponisten, der in den Briefen detailliert seine Reisen, Eindrücke, Stimmungen u.a. schilderte, als auch zu seinem Schaffen, wie etwa zur Entstehung seiner Werke sowie zu seinen ästhetischen und künstlerischen Neigungen, Überzeugungen und philosophisch-religiösen Ansichten. In Nadeshda von Meck fand der Komponist eine kongeniale und kompetente Musikliebhaberin und einen Menschen von großem Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Auch die gelegentlich polemisch geführte Korrespondenz wurde von Tschaikowsky geschätzt, denn sie inspirierte ihn, seine Ideen klar zu formulieren.
In den 1880er Jahren änderte sich allmählich der Charakter des Briefwechsels, der weniger emotional und zunehmend sachlicher wurde; auch die Zeitabstände zwischen den Briefen vergrößerten sich, was nicht zuletzt durch die angeschlagene Gesundheit der Korrespondentin zu erklären war, denn Nadeshda von Meck litt an Tuberkulose und Arm-Atrophie.
Der Briefwechsel zeigt nicht nur Tschaikowsky als genialen Komponisten, seine Charakterzüge, seine Stärken und Schwächen als Mensch mit all seinen Höhen und Tiefen. Er spiegelt zugleich eine außerordentliche Frau, deren vielschichtige und komplexe Persönlichkeitsstruktur den Klischees ihrer Zeit nicht entsprach und die viele Tabus zur Sprache brachte. Höchst intelligent, empfindsam und (selbst)kritisch demonstriert Nadeshda von Meck in ihren Briefen eine erstaunliche Fähigkeit zur schonungslosen Reflexion: Eingebunden in eine enorm große Familie, äußert sie sich sehr skeptisch und bisweilen negativ über die Institution Ehe. Beinahe stolz spricht sie über sich selbst von ihrer „Unweiblichkeit“ und behauptet, sie sei „sehr unsympathisch in ihren persönlichen Beziehungen“; das Klima in der eigenen Familie schildert sie als „kameradschaftlich“ und eher „männlich“ (zit. n. Alexander Poznansky. Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man. N.Y., etc., 1993, p. 198). Jeglicher Sentimentalität abhold bezeichnete sie sich in ihrem Brief an Tschaikowsky vom 12. (24.) November 1877 als „pantheistisch“ und ihre Religion als „idealen Materialismus“ (zit. n. Ena von Bauer, Hans Petzold (Hrsg.). Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck. Leipzig 1964, S. 107). Insgesamt vermittelt diese Korrespondenz den Eindruck, dass Nadeshda von Meck sehr menschenscheu war, zerrissen durch Konflikte zwischen dem Materiellen und dem Ideellen, dem praktischen Leben und der Kunst. Sie scheint ein freier Geist in feindseligen gesellschaftlichen Umständen gewesen zu sein.
Rezeption
In der russischen Tschaikowsky-Literatur wurde der Beziehung zwischen Tschaikowsky und Nadeshda von Meck von Anfang an große Bedeutung beigemessen. Der Briefwechsel zwischen beiden wurde und wird in der russischen und sowjetischen Literatur häufig zitiert und als wichtigste Quelle zum Verständnis von Leben und Schaffen des Komponisten bewertet.
Auseinandersetzungen darüber zog indes die von Tschaikowskys Bruder verfasste Biografie des Komponisten nach sich (Čajkovskij, Modest. Žizn‘ Petra Il’iča Čajkovskogo [Das Leben von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky]. 3 Bde. Moskau/Leipzig 1900-1902), denn Modest Iljitsch Tschaikowsky erklärte u.a. den plötzlichen Bruch zwischen dem Komponisten und seiner Mäzenin damit, dass die reiche Dame schlicht ihr Interesse an Tschaikowsky verloren habe. Seine Darstellung und Interpretation der Ereignisse erklärt sich vermutlich durch die komplexe Beziehung zwischen den Brüdern Tschaikowsky und nicht zuletzt durch einen gewissen Neid seitens Modest Iljitsch Tschaikowsky.
1939 wurde der deutsche Film „Es war eine rauschende Ballnacht“ produziert (Regisseur und Produzent: Carl Froelich), in dem Tschaikowskys Biografie sehr frei dargestellt wurde (Drehbuch: Géza von Cziffra). Dieser erste melodramatische und naive Versuch, Tschaikowskys Leben zu verfilmen, ist indes vor allem dank der schauspielerischen Leistungen von Zarah Leander (Katharina Alexandrowna Murakina), Marika Rökk (Tänzerin Nastassja Petrowna Jarowa) und Hans Stüwe (Tschaikowsky) von bleibender historischer Bedeutung. http://www.filmportal.de/df/ca/Uebersicht,,,,,,,,165DA82CBB7242C1855A0456884AA144,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.html
1969 entstand der sowjetische Film „Tschaikowsky“ (Regisseur: Igor Talankin) auf der Grundlage des Briefwechsel von Peter I. Tschaikowsky und Nadeshda von Meck (Tschaikowsky: Innokenti Smoktunowski; Nadeshda von Meck: Antonina Schuranowa).
http://www.ruskino.ru/mov/2993
1970 wurde der biografische britische Film „The Music Lovers“ (deutscher Titel „Genie und Wahnsinn“) nach der von Catherine Drinker Bowen und Barbara von Meck herausgegebenen Briefsammlung mit Richard Chamberlain als Tschaikowsky und Izabella Telezynska als Nadeshda von Meck gedreht (Regisseur und Produzent: Ken Russel).
Quellen
I. Literatur zu Peter I. Tschaikowsky und Nadeshda von Meck
Čajkovskij, Modest. Žizn‘ Petra Il’iča Čajkovskogo [Das Leben von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky]. 3 Bde. Moskau/Leipzig 1900-1902. Englisch: Tchaikovsky, Modest: The Life And Letters Of Peter Ilich Tchaikovsky, University Press of the Pacific, 2004
Čajkovskij, P. I. Perepiska s N. F. fon Mekk [Briefwechsel mit N. F. von Meck]. 3 Bde. Hrsg. von W. A. Shdanow und N. T. Shegin. Moskau/Leningrad 1934-1936.
Bowen, Catherine Drinker, von Meck, Barbara. The Music Lovers: The Story of Tchaikowsky and Nadejda von Meck. N.Y., 1937. Deutsch: Bowen, Catherine Drinker, von Meck, Barbara. Geliebte Freundin. Tschaikowskis Leben und sein Briefwechsel mit Nadeshda von Meck. Aus dem Englischen von W. F. Groeder. Leipzig o.J. (1938)
Die seltsame Liebe Peter Tschaikowsky‘s und der Nadjeschda von Meck. Briefwechsel Peter Tschaikowsky’s mit Frau Nadjeschda von Meck aus dem Russischen übersetzt von Sergei Bortkiewicz. Leipzig o.J. (um 1938)
von Bauer, Ena, Petzold, Hans (Hrsg.). Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck. Leipzig 1964
Berberova, Nina. Tschaïkovski. Arles, 1987; Deutsch: Berberova, Nina. Tschaikowsky. Eine Biographie. Übersetzt von A. Kamp. Reinbek 1994
'To my best friend'. Correspondence between Tchaikovskyand Nadezhda von Meck. 1876-1878, translated by Galina von Meck. Ed. by E. Garden and N. Gotteri. With an Introduction by E. Garden. Oxford, 1993
Čajkovskij i Nadežda Filaretovna fon Mekk. Perepiska v 3 tomach [Tschaikowski und Nadeshda Filaretovna von Meck. Briefwechsel in 3 Bänden]. Moskau 2004
Troyat, Henri. La Baronne et le Musicien. Madame von Meck et Tchaïkovski. Paris, 2006
II. Literatur zu Tschaikowskys Leben und Schaffen
Hruby, Karl. Peter Tschaikowsky. Eine monographische Studie. Leipzig 1902
Warrack, John. Tchaikovsky. London, 1973
Helm, Everett. Peter I. Tschaikowsky. Reinbek 1976
Brown, David. Tchaikovsky: The Crisis Years, 1874-1878. N. Y., 1983
Volkoff, Vladimir. Tchaïkovsky. Paris, 1983
Garden, Edward. Tschaikowsky, Leben und Werk. Stuttgart 1986
Brown, David. Tchaikovsky: The Years of Wandering. N.Y., 1986
Ders. Tchaikovsky: The Final Years. N.Y., 1992
Poznansky, Alexander. Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man Lime Tree. N.Y., etc., 1993
Holden, Anthony. Tchaikovsky: A Biography. N.Y, 1995
Poznansky, Alexander. Tschaikowskys Tod. Geschichte und Revision einer Legende. Mainz 1998
Brown, David. Tchaikovsky: The Man and his Music. London, 2006
Floros, Constantin. Peter Tschaikowsky. Reinbek 2006
III. Literatur zur Familie von Meck und ihrem Unternehmen
Mekk, Nikolaj Karlovič. Ėkonomika transporta i eё perspektivy v našem otečestve [Transportwirtschaft und ihre Perspektiven in unserem Vaterland]. Petrograd 1921
Ders. Buduščie puti soobščenija Zapadnoj Sibiri [Zukünftige Verbindungswege in West-Sibirien]. Moskau 1928.
Vitte, Sergej Jul’evič. Vospominanija [Erinnerungen], Bd. 1. Moskau 1960
Paltusova, I. N. Dinastija fon Mekk [Die Dynastie von Meck]. In: Trudy Gosudarstvennogo Istoričeskogo muzeja [Schriften des Staatlichen Historischen Museums], Bd. 98. Moskau 1997, S. 149-167
Predprinimatel’stvo i predprinimateli Rossii. Ot istokov do načala XX veka [Unternehmungen und Unternehmer Russlands. Von den Ursprüngen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts]. Мoskau 1997
Istorija predprinimatel’stva v Rossii [Unternehmensgeschichte Russlands], Bd. 2. Vtoraja polovina ХIХ – načalo ХХ veka [2. Hälfte des 19. – Anfang des 20. Jahrhundert]. Мoskau 1999
Gavlin, M. L. Dinastija „železnodorožnych korolej“ fon Mekk [Die Dynastie der „Eisenbahnkönige“ von Meck]. In: Ėkonomičeskaja istorija. Obozrenie [Wirtschaftsgeschichte. Umschau], Bd. 7. Hrsg. von L. I. Borodkin. Мoskau 2001, S. 133-152
ORIG: http://mugi.hfmt-hamburg.de/Artikel/Nadeshda_von_Meck
источник: http://www.xcursio.ru/index.php/lang/rus/alias/histor_21
Начался 1877 год.
Ему был передан краткий заказ на несколько фортепианных переложений. За этот заказ была прислана щедрая плата. Котек, скрипач, был посредником в этом деле. Таинственное имя было Надежда Филаретовна фон Мекк. Вдова богача, железнодорожного строителя, миллионерша, владелица домов в Москве, поместий в западном крае, приморских вилл за границей; мать одиннадцати детей и уже бабушка. Рубинштейн между прочим сказал Чайковскому, что она некрасива, стара, оригиналка ужасная... В доме у нее много музыки... Первое ее письмо было кратко и смело:
«Милостивый Государь Петр Ильич!
Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только, и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живется легче и приятнее».
Он ответил тоже кратко и вежливо. Спустя два месяца она написала опять:
«Хотелось бы мне много, много сказать Вам о моем фантастичном отношении к Вам, да боюсь отнимать у Вас время, которого Вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно ни отвлеченно, дорого мне, как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркою, пожалуй, даже сумасбродкою, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренне, да и так основательно».
Эти строчки ему чудовищно польстили. А еще через месяц она попросила позволения издать за свой счет его переложения у Юргенсона, писала, что Вагнер перед ним «профанатор искусства», что его «Марш» приводит ее в «сумасшедшее состояние», что он - ее идеал и что если бы у нее в руках было счастье, она отдала бы его ему.
Сквозь него, которого она не знала и знать, казалось, не стремилась, она обращалась к его музыке. Теперь был на свете человек, которого все, что Чайковский до сих пор написал, приводило в трепет восхищения, человек, который с неизъяснимым волнением ждал от него новых шедевров и, что бы он ни написал, знал, что не будет обманут. В первых же письмах она дала ему понять, что он ей не нужен - что она не требует его прихода и даже не ждет встреч с ним. Им незачем быть знакомыми. Это может повести к пересудам.
Ей нужно немногое: утром, когда она просыпается, первая мысль и забота ее - о нем. Пусть на подносе, среди писем, которые приносит ей дворецкий, будет иногда письмо и от него, чтобы прежде, чем пускаться в управление своим государством, она бы знала, что тот, кто дает ей такую радость, такое неизъяснимое блаженство (от которого она иногда чувствует, что сходит с ума), - жив, здоров, где-то дышит, - далеко ли, близко ли, но в одном с ней мире, и что душа его покойна.

А государство, которым она управляла, было громадно, сложно и пестро: муж ее, выстроивший Либаво-Роменскую дорогу, умер, оставив огромные дела в беспорядке; в имении ее, богатейшем и роскошнейшем в крае, ткалось полотно, кружились мельницы, дымили свеклосахарные заводы. Она была коллекционершей, она содержала в доме трио молодых музыкантов, она, наконец, поднимала детей: от старших у нее уже были внуки, младшие - с гувернерами, домашними учителями, боннами, няньками и целым штатом прислуги жили при ней.
Было время - еще год назад - она выезжала в свет и принимала у себя. Ее считали самодуркой. Она была худа, высока, очень умна и нервна. Чайковский вспомнил, что несколько раз видел ее на концертах - в слишком ярком, не шедшем к ней золотом платье, расшитом зелеными павлинами, зеленый павлин был приколот у нее к высокой, тяжелой прическе. Он вспомнил даже, что однажды сидел в соседней ложе, и к нему доносился запах неприятных и сильных ее духов. Но черт лица ее он в точности не запомнил. Ее маленькие некрасивые руки лежали на коленях, сложенные по-старушечьи, она срывала с себя перчатки, как только входила куда-нибудь, - приличий соблюдать не старалась.
Теперь все это возникало в памяти. Впрочем, не это было важно. Важно было, что она стара, щедра, что она не требует его к себе. Над ним внезапно раскрылось теплое, широкое крыло, куда ему можно было укрыться. Для этого не надо было делать никаких усилий: крыло само простиралось над ним.
В ответ на ее письма, он 1 мая попросил у нее взаймы три тысячи рублей, для расплаты с кредиторами. И написал, что решил ей, лучшему своему другу, посвятить Четвертую симфонию. Он чувствовал, когда писал, что есть как будто какая-то нехорошая связь между этими деньгами и этим посвящением. Но Надежда Филаретовна связи не почувствовала. Она немедленно послала ему деньги - для нее это была ничтожная сумма. Она благодарила его за доверие. Посвящение же Четвертой симфонии было для нее таким счастьем, что у нее от волнения слабело сердце, когда она об этом думала. И разве когда-нибудь она сможет хоть как-нибудь его отблагодарить? Дружба с ним! «И больно и сладко» становилось при мысли об этой дружбе. Она вставала с кресел, начинала долго ходить по комнате. Она сжимала руки на груди, она ломала свои некрасивые, короткие пальцы, и глаза ее, глубокие, темные, неженские глаза, блестели и сверкали под густыми бровями. А на пюпитре концертного рояля, стоявшего тут же, в ее гостиной, день и ночь лежал раскрытый романс «И больно и сладко...» Вечерами иногда она просила Юлию петь его. Ночью, когда весь дом спал, она сидела у себя на постели, в чепце, при ночнике, задыхаясь, перебирала свое страшное, необъяснимое, от всех тайное чувство к незнакомому человеку, о котором шел слух, что он не любил ни одной женщины, что он от природы так создан. Она кусала подушку, клялась самой себе, что никогда не призовет его, бормотала глухо, что если есть Бог, этот человек сам придет к ней. Она может ждать долго, очень долго.
Но это бывало в тяжелую бессонницу. Днем, когда приходил управляющий с делами, когда подавались письма и газеты (война с Турцией, политические события во Франции), когда в мыслях были заботы: одна дочь беременна, другая только что родила, старший сын тратится на цыганок, другой - держит экзамены в Правоведение, у маленьких - корь; когда в мыслях были заботы, и собственное нездоровье (ежемесячные трехдневные нестерпимые головные боли), и случайные радости - от тех же дел, детей, путешествий, музыки; когда все это, вместе с солнцем на небе, вставало с утра в ее жизни, мысль о Чайковском делалась такой же ласково-суетливой, как мысль о младшей дочери, о пятилетней Милочке, или о двух малышах, розовых от коревой сыпи. Где он? Здоров ли? Не слишком ли на него надавила жизнь с кредиторами, консерваторией, всевозможным (она догадывалась) мелким сором обид и тревог? О чем он думает, что пишет, дорогой, родной, несравненный друг? Помнит ли он о ней, о той, на которую в случае чего можно опереться? Верит ли ей? Верит ли своей свободе? Нет, никогда она не отнимет ее у него, если он сам не захочет прийти к ней, она его не позовет. Ей сорок пять лет, жить, может быть, осталось не так уж много, но она будет ждать, пока будет дышать.
Она долго шагает по комнате. И Юлия говорит, входя:
- Милая мама, у вас заболит сердце.
Располагая значительным состоянием, Надежда Филаретовна фон Мекк вела большую меценатскую деятельность в области музыки: оказывала поддержку Московской консерватории, Русскому музыкальному обществу в деле развития национальной музыкальной культуры.
Фон Мекк также поддерживала материально молодых музыкантов. Многие из них бывали в доме фон Мекк в качестве учителей музыки ее детей, а также ее аккомпаниаторов, поскольку музицирование было потребностью Надежды Филаретовны. Для нее это был образ жизни.
Находясь после смерти мужа в Москве, фон Мекк обратилась к директору консерватории Н.Г. Рубинштейну с просьбой рекомендовать ей скрипача, который бы мог вместе с ней играть с листа сочинения для скрипки и фортепиано. Рубинштейн указал на Иосифа Котека, виртуозного скрипача, ученика и приятеля П.И. Чайковского.
И.И. Котек был поклонником таланта своего профессора и друга, но в лице Надежды Филаретовны фон Мекк он нашел еще более восторженное отношение к Чайковскому. К его произведениям она питала какое-то исключительное чувство, силу и глубину которого позже довелось узнать Петру Ильичу. Она интересовалась и личностью любимого композитора, и кто, как не Котек, мог рассказать ей о характере, вкусах, будничной жизни Чайковского. Узнала она и о его затруднительном денежном положении, о стремлении вырваться на свободу из оков консерваторских обязанностей и от души захотела избавить композитора от материальных забот.
«Так начались, - пишет брат и биограф композитора Модест Ильич Чайковский, - странные, но имевшие громадные последствия отношения Петра Ильича и Надежды Филаретовны. Они глубоко отразились на всей его последующей судьбе, в корне изменили основы его материального состояния, что доставило ему столь важную для него свободу в его композиторском творчестве». И вместе с тем, сами по себе, они носили такой высокопоэтический характер и были так непохожи на все происходящее в обыденной жизни, что стали событием русской культуры XIX столетия.
Их необыкновенная переписка началась в знаменательный для Чайковского период. Сегодня весь мир знает его имя, но в 1870-х годах он еще был далеко не известным композитором. Он заслужил тогда только эпитет «талантливый». Его оперы изредка шли на императорской сцене. Его оркестровые произведения иногда исполнялись на симфонических собраниях, романсы, пьесы входили в быт. Одним словом, опусы талантливого профессора Московской консерватории были известны музыкальному миру. Имя Чайковского постепенно проникало и за границу. Европейские дирижеры и солисты пытались знакомить публику с новым русским композитором. Публика внимательно слушала, одобряла, но курила фимиам еще другим богам. Не было и признаков того ореола, который впоследствии окружил Чайковского в России, в Западной Европе, во всем мире. Молодой Чайковский уже испытал свои силы во всех родах музыкального искусства. Он обнародовал две оперы, три симфонии, четыре значительных оркестровых произведения, три квартета, фортепианный концерт, но известность его не успела еще подняться выше уровня популярности даровитого профессора-композитора. Перелом в его жизни относится ко времени заочного знакомства с Надеждой Филаретовной фон Мекк в декабре 1876 года.
В одном из первых писем к «милостивому государю Петру Ильичу» фон Мекк просила прислать ей его фотографию: «...у меня есть их две, но мне хочется иметь от Вас. Мне хочется на Вашем лице искать тех вдохновений, тех чувств, под влиянием которых Вы писали музыку, что уносит человека в мир ощущений, стремлений и желаний, которых жизнь не может удовлетворить». Мироощущение фон Мекк, ее аскетизм и отрешенность, тонкое понимание музыки с первых же строк стали близки и дороги Чайковскому, встретившему в ней родственную душу.
В халате, с голой шеей, нечесаный, с опухшими веками он по утрам в тридцать семь лет смотрел стариком…
Начинавшийся день обещал быть в точности схожим со вчерашним. Это была суббота. В этот день ему подали письмо — любовное письмо от совершенно незнакомой ему особы.
Между завтраком и сном он ответил ей. Он поблагодарил ее за ее сочувствие его музыке, любовь пропустив мимо ушей.
Второе письмо Антонины Ивановны Милюковой пришло через несколько дней, оно было длиннее первого, и, прочтя его, Чайковский пошел спросить Лангера, преподавателя консерватории (его класс помещался в том же коридоре), не помнит ли он такую-то, и что она за особа? Антонина Ивановна писала, что год тому назад она училась у Лангера, что она — музыкантша.
Но Лангер долго перебирал в памяти своих бывших учениц, пока вспомнил Антонину Ивановну. Он посмотрел на Чайковского пристально и затем сказал:
— Вспомнил. Дура.
Днем, в гостях у певицы Лавровской, он жалуется, что не на что ему писать новую оперу — и сам не рад: гости и хозяева предлагают ему такие сюжеты, от которых начинает ныть в душе. Хозяйка, между прочим, уверяет его, что «Евгений Онегин» мог бы ему пригодиться.
Был вечер. Магазины закрывались, зажигался газ. Надо было во что бы то ни стало достать Пушкина, а там видно будет. Он дошел до Кузнецкого моста. Мальчишка у Вольфа запирал железный ставень. Пушкина вынесли ему через черную дверь. Извозчик повез его домой. «Не буду ни спать, ни ужинать, буду пить, буду читать». И он запер дверь своего кабинета.
Он читал медленно и долго, с какой-то счастливой страстью сдерживая себя, чтобы не перескочить через наизусть знакомую строчку, но чтобы и ее услышать, как все. Да, «вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой», это он верно вспомнил. А дальше было: «твоей защиты умоляю». Антонина Ивановна, девушка совершенно бедная и совершенно честная, тоже умоляла его о защите. Это мелькнуло в мыслях, но об этом сейчас не хотелось думать. По мере того, как он читал, в воображении возникали первые смутные очертания сценария оперы…
Еще раз, когда он рассказывал Шиловскому сцену письма Татьяны, что-то зацепило внутри: это судьба! Неужели я прочту Антонине Ивановне урок: так не ведут себя благовоспитанные девицы, желаю вам поскорее выйти замуж за подходящего человека. Нет, это судьба. Жизнь дает мне то, что я искал. Надо быть ей благодарным…
Это было странное предложение руки и сердца. Собственно, сердце предложено не было. Антонине Ивановне предлагалось выйти замуж за человека, который ее не любил, откровенно говорил ей об этом, и никогда не обещал ей ее полюбить... Антонина Ивановна улыбнулась. Она была довольна оборотом, который принимало дело. Свадьбу он обещал сыграть через месяц. Он еще раз упомянул, что у него «странный характер», что он не обещает ей счастья. И на прощанье он поцеловал ее руку, прося все это сохранить до времени в тайне. Никто не должен был знать о том, на что он решился…
Что бы он делал, если бы Надежда Филаретовна не прислала ему трех тысяч? Холод шел у него по спине, когда он вспоминал, как жил эту зиму — в долгах, в душивших заботах. Но будущее было темно…
Надежда Филаретовна — это была рука, протянувшаяся к нему. И в последние дни этого мая, когда он дописывал Четвертую симфонию, посвященную ей, он не раз думал о ней с благодарностью и любопытством. Не ей ли он был обязан только теперь — так поздно! — пришедшим к нему осознанием себя, как музыканта, как прежде всего — музыканта? …В тот день, когда он дописал вчерне вещь, посвященную «лучшему другу», он почувствовал, что отсюда начнется для него что-то очень важное, что его, когда-то случайного музыканта, потом — весьма посредственного композитора, сейчас стережет что-то настоящее, серьезное, что он вот-вот сольется уже неразрывно с той стихией, которая была до сих пор для него только лирическим деланием и которая скоро станет делом всей его жизни…
Итак, он становился «как все», и в церкви, как у всех, во время венчания, у него было торжественное лицо. Она стояла рядом. Она была довольно красива и стройна. О. Разумовский, приятель Чайковского, настоятель церкви Георгия Победоносца, венчал истово, пели певчие в пустой церкви. Разумовский с пухленькой ручки Антонины Ивановны снял кольцо и надел его Чайковскому на безымянный палец.
— Поцелуйтесь, — сказал священник.
Чужое миловидное лицо с готовностью обернулось к нему; Чайковский слегка наклонился. Губы его коснулись края губ Антонины Ивановны и ее розовой щеки. И в это мгновение дрожь отвращения прошла по нему. Его замутило. Он понял, что начинается ни сон, ни явь, — ужас, которому не будет конца…
...Ей было двадцать восемь лет, она знала из романов и от замужних подруг, что такое брачная ночь, которой до сих пор у нее не было. Ей казалось, что человек, который называется ее мужем, робок и целомудрен, — и только. Себя она считала женщиной со скрытым вакхическим темпераментом. Впрочем, рассуждать она не была обучена и про себя думала, что главного добилась: она была замужем, она была женой Чайковского. Она решила найти в Москве уютную квартиру, обставить свое «гнездышко», завести кухарку; не может быть, чтобы этот стыдливый человек, этот ангел добродетели и деликатности не ответил на ее любовь.
На квартиру и кухарку он был согласен. За это Антонина Ивановна должна была согласиться на его отъезд в Каменку в конце лета. Он был в таком состоянии, что едва мог объяснить ей, что так будет лучше. Он не будет ей мешать в ее хозяйственных хлопотах, допишет «Онегина» вчерне...
Бежать? Убить? Умереть самому? Он еще не знал, что сделает, но в первые же дни совместной жизни в «гнездышке» он узнал, что человеческим возможностям положен предел, что он не может жить с женщиной, с женой, что он совершил безумный шаг — не только не укрывший его от подозрительности окружающих, но выдавший его с головой, ставший его гибелью, опозоривший его навсегда. Куда деться?... Он бежал по лужам, в темные переулки, к Москве-реке. Покончить с собой казалось ему слишком страшно: какое горе причинит он своим, каким позором покроет их имя! Прошла жизнь, прошла музыка, которая как раз сейчас, только сейчас, стала всем его существом — сколько времени было потеряно, как поздно начал он созревать. И с той тоже покончено, с Надеждой Филаретовной, с «лучшим другом» — о, как беспощадно отвернется она от него, когда узнает... Надо спешить. Так дольше невозможно…
Он пришел домой в бреду… К утру жар спал, даже доктора звать не пришлось… Когда он пришел в себя, голова его тряслась, руки тряслись, по лицу катились слезы. Он взял бумагу, перо и написал Анатолию короткое письмо: «Мне необходимо уехать. Пришли телеграмму — якобы от Направника, что меня вызывают в Петербург».
На второй день к вечеру пришел вызов: присутствие Чайковского в Петербурге было необходимо, дирекция Мариинского театра просила его выехать немедленно. Вечером был скорый поезд…
Чайковский был в Кларане. Стоял октябрь. Он сам себе говорил, что для полного выздоровления ему нельзя вспоминать, как и почему он сюда попал…
Анатолий остановился у Рубинштейна, который засыпал его вопросами. Они дали знать Антонине Ивановне, что будут у нее по делу. Анатолий старался объяснить ей, как можно бережнее, что Чайковский к ней больше не вернется, но Николай Григорьевич прямо напустился на нее за ее непонимание «нашего великого музыканта». Узнав, что муж бросил ее, она не выказала ни отчаяния, ни даже простого сожаления, несколько раз вставала, охорашивалась перед зеркалом и, что-то напевая, рассказала им о генерале, ее женихе... На лестнице оба взглянули друг на друга. Да поняла ли она, зачем они приходили? Но оказалось, что поняла прекрасно, особенно же вникла в сторону дела материальную: ей было сказано, что ее обеспечат…
...Он ни с кем не хотел видеться, потому что никому ничего не мог бы объяснить. Кроме того, ему казалось, что ни один человек не подаст ему руки.
А та рука, которая еще недавно протянулась к нему? Неужели и Надежда Филаретовна отвернется от него теперь, разлюбит его? «Вдруг она узнает про то и прекратит со мной всякие сношения?» — думал он. Ему нужны были сейчас, срочно, ее письма, ее внимание, ее помощь. Впервые сев за письменный стол в кларанском пустынном пансионе, он написал ей, как мог; старался писать почти правду:
«Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, что привычка, в силу которой я надеялся, никогда не придет. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. И между тем я никого не мог винить, кроме себя... Я смертельно боюсь, что и в Вас промелькнет чувство, близкое к презрению...» И тут же попросил денежной помощи. Его письмо пришло к ней в Москву в то время, когда она, узнав через знакомых музыкантов о его болезни и отъезде, не находила себе места от волнения за него.
«Я радуюсь, что Вы вырвались из положения притворства и обмана, — ответила она ему, — положения несвойственного Вам и недостойного Вас. Вы старались сделать все для другого человека, Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли, потому что такой человек, как Вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Что же касается моего внутреннего отношения к Вам, то, Боже мой, Петр Ильич, как Вы можете подумать хотя на одну минуту, чтобы я презирала Вас, когда я не только все понимаю, что в Вас происходит, но я чувствую вместе с Вами, точно так же, как Вы, и поступала бы так же, как Вы, только я, вероятно, раньше бы сделала такой шаг разъединения... Я переживаю с Вами заодно Вашу жизнь и Ваши страдания, и все мне мило и симпатично, что Вы чувствуете и делаете. Боже мой, как бы я хотела, чтобы Вам было хорошо. Вы так мне дороги»... Она просила его позволения впредь всегда и во всем заботиться о нем, чтобы он никогда не думал о деньгах, иначе ей «будет больно». Три тысячи она выслала ему в Кларан, и обещала ежемесячно высылать полторы. За это она хотела двух вещей: чтобы он иногда писал ей и чтобы он хранил их отношения в тайне.
А между тем Антонина Ивановна из роли непонимающей дурочки превратилась на время в овечку и жертву… То, что Чайковский к ней больше не вернется, она понимала, но она так же хорошо поняла, что у нее против него есть оружие и что этим оружием пора воспользоваться. Она написала ему в Кларан, что, если он не вышлет ей сумму денег, она расскажет отцу его и сестре всю о нем правду. Не дождавшись его ответа, она так и сделала: она называла его обманщиком, женившимся на ней только для того, чтобы замаскироваться, она ужасается его порокам, за которые ссылают в Сибирь...
Деньги, деньги! Теперь Надежда Филаретовна становилась его единственным спасением. Без нее он не может заткнуть рот жене, и она ославит его на всю Россию. И без того страшно показаться туда. Без денег он никогда не развяжется с этим кошмаром. Развод? Но на развод нужна такая сумма! Десять тысяч.
И вот Надежда Филаретовна обещает ему эти деньги. Он пишет ей, что возьмет их только в том случае, если Антонина Ивановна «будет умной», оставит его в покое, согласится на развод и на всю его процедуру. Пока же он будет держать ее под угрозой: за малейшее слово о нем он лишит ее месячного сторублевого пособия.
Каждое напоминание Антонины Ивановны о себе вызывало у него нервный припадок, но в промежутках между письмами он приходил в себя, он медленно возвращался к жизни, к «Онегину»…
Петр Ильич называл свою женитьбу не иначе, как «катастрофой». В число близких людей, оказавших тогда ему поддержку, следует, кроме двух братьев, включить также новое, доселе почти неизвестное ему лицо — Надежду Филаретовну фон Мекк. Дальнейшая биография Чайковского неразрывно связана с ее именем.
Редкий музыкальный вкус и природное чутье помогли фон Мекк выделить среди музыкантов неизвестного ей лично профессора Чайковского. С присущим ей пылом она объявила Чайковского выдающимся, почти гениальным композитором, и сделала это одной из первых. Его произведения она ставила на один уровень с классическими произведениями давно признанных авторитетов. Тогда это было слишком смело, могло показаться чрезмерной экзальтированностью, дамским увлечением. Но время подтвердило правильность ее оценки. Она стала пророком в своем отечестве.
Переписка П.И. Чайковского и Н.Ф. фон Мекк занимает исключительное место в эпистолярной литературе. Это не переписка друзей, не обмен письмами близких приятелей, это — стенограмма отношений двух лиц, лично не знакомых, не перекинувшихся ни одним словом, не слышавших даже голоса друг друга, но связанных своеобразными более чем дружескими узами. Ни одного штриха, ни одной детали не добавлено в жизни к тому, что запечатлелось на этих страницах.
Модесту скоро исполнится тридцать лет. То, чего боялся Чайковский, отчасти сбылось: это — двойник, это — верная и немного утомительная тень… В одном Модест не годится никуда: в беседах и спорах о музыке. Он во всем соглашается с братом, как с божеством. И вот тогда у Чайковского возникает долгий разговор с Надеждой Филаретовной — разговор музыканта со слушателем. Как она ни верит ему во всем, она часто не согласна с его мнением. Ни Рафаэля, ни Моцарта, ни Пушкина она не любит. Она любит Микеланджело, Бетховена, Шопенгауэра, и музыка для нее «источник опьянения, как вино», «как природа», она ищет в музыке забвения, наслаждения, соединения с чем-то, чего не может назвать: все, на что была скупа жизнь, дает ей музыка — его музыка прежде всякой другой. Он требует от нее, чтобы она оставила эти иллюзии: «музыка, — возражает он, — не обман. Она откровение»...
Она спрашивает его о новой русской музыке: за что и надо ли любить ее? Он отвечает ей длинным письмом — обо всех: о тех, с которыми его сталкивала судьба в течение десяти с лишком лет, от которых он принимал похвалу и терпел обиды…
Надежда Филаретовна задает ему новый вопрос — извечный вопрос, задаваемый композиторам о программной музыке, — касательно Четвертой симфонии.

«Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии? — отвечает он. — … В нашей симфонии программа есть, т.е. есть возможность словами изъяснить то, что она пытается выразить, и Вам, только Вам одним, я могу и хочу указать на значение ее, как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно, главная мысль. Это — фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать. …Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоропреходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою…»
Прошло то время, когда он в письмах к братьям называл ее за глаза «Филаретовной» — и часто не мог придумать, что ей писать, — все те же слова благодарности надоедали ему, а другого ничего он подобрать не мог. Теперь он с готовностью отвечает ей на ее вопросы о музыке, о религии, о любви; она дает новые толчки переписке, и он следует за ней:
«Петр Ильич, любили ли Вы когда-нибудь? — спрашивает она. — Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из Вашей жизни (Дезире Арто), но я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может».
«Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь неплатоническая? — отвечает он. — И да и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе: т.е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет и нет... Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу; да, да и да, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю, или, лучше сказать, предоставляю судить другим».
А когда приходит письмо от Рубинштейна с извещением, что Чайковский назначен делегатом на Всемирную выставку в Париже, он посылает ей телеграмму: ехать ему или не ехать?
От этого письма он сразу не на шутку делается опять больным… Он не хочет ни города, ни шума, ни людей. Он не хочет обязанностей. Надежда Филаретовна отвечает: «не ехать», и он пишет Рубинштейну, что отказывается от делегатства.
Сначала он делал усилие, чтобы сесть за бумагу: это надо, этого нельзя не делать. Потом работа втягивает его — так бывает с ним почти всегда, он об этом пишет Надежде Филаретовне:
«Я постараюсь рассказать Вам в общих чертах, как я работаю. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида:
1) Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности.
2) Сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия Политехнической выставки мне заказали кантату или когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта дирекция Музыкального общества мне заказала марш (сербско-русский) и т.п.
Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее…»

О том, что сочинения, «принадлежащие ко второму разряду», то есть написанные по заказу, бывают иногда не хуже первых, Надежда Филаретовна знала. У нее были минуты, когда она с трудом сдерживала себя, чтобы не написать ему того, чего писать не следовало. После «Сербского марша», написанного Чайковским на заказ, она не сдержала себя:
...«Кончаю это письмо по возвращении из концерта, в котором я слушала Ваш Сербский марш. Не могу передать словами то ощущение, которое охватило меня при слушании его; это было такое блаженство, от которого у меня подступали слезы к глазам. Наслаждаясь этою музыкой, я была несказанно счастлива от мысли, что автор ее до некоторой степени мой, что он принадлежит мне и что этого права у меня никто отнять не может. …В этой новой обстановке, между столькими чужими людьми, мне показалось, что Вы никому не можете принадлежать столько, сколько мне, что моей собственной силы чувства достаточно для того, чтобы владеть Вами безраздельно. В Вашей музыке я сливаюсь с Вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною:
Здесь я владею и люблю.
Простите мне этот бред, не пугайтесь моей ревности, ведь она Вас ни к чему не обязывает. Это есть мое собственное и во мне же разрешающееся чувство. От Вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой перемены формы: я хотела бы, чтобы Вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на ты. Я думаю, что в переписке это не трудно, если Вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что и так я счастлива. Будьте Вы благословенны за это счастье! В эту минуту я хотела бы сказать, что обнимаю Вас от всего сердца, но, быть может, Вы найдете это уж слишком странным, поэтому я скажу, как обыкновенно: до свиданья, милый друг, всем сердцем Ваша».
Вся ее любовь, и за любовью — вся ее ревность, проснулись вдруг. Уже на следующий день она повторяла себе, что она — мать одиннадцати детей и бабушка. «Бабушка», — повторяла она вслух, сжимая худыми руками голову, и все-таки мысль о молоденьких консерваторках, о том, что еще кому-нибудь пишет он письма на пяти листах, сводила ее с ума.
Но он отвечал ей от полноты сердца, и вид его конверта с итальянским штемпелем действовал на нее так, как если бы она «вдыхала эфир». Он отвечал ей:
«Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю, и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования. Напрасно Вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые Вы мне высказываете в письме Вашем. Принимая их от Вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их...»
От того, чтобы перейти на «ты», Чайковский отказался.
Как-то само собой, без обсуждения и предварительных условий, фон Мекк взяла на себя заботы о материальном благополучии Чайковского, выдавая ему ежегодно по 6 тысяч рублей. В любой момент своей жизни Чайковский находил в ней тот отклик, ту поддержку, которые в данную минуту ему были нужны. Надежда Филаретовна создавала исключительно благоприятную атмосферу для творчества, и Чайковский ее одну допускал в свою творческую лабораторию.
«Милостивый государь» скоро сменился в письмах «дорогим», потом «другом» с увеличивавшимся количеством нежных эпитетов. Во многих письмах фон Мекк стала касаться того влияния, которое оказала встреча с Чайковским на ее жизнь, восторженно писала о восприятии его музыки: «Я не могу Вам передать, что я чувствую, когда слушаю Ваши сочинения. Я готова душу отдать Вам, Вы обоготворяетесь для меня; все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается со дна души».
Петр Ильич с умом замалчивал подобные порывы. Они ловко обходили все деликатные темы.
И все же в первую очередь в переписке Чайковского и фон Мекк поражает поток чувства симпатии, благодарности друг другу, общности мыслей и переживаний. Их переписку можно рассматривать как летопись музыкальной и духовной жизни композитора, его подробной и интересно написанной автобиографией. Оба они доверялись перу и бумаге с явным удовольствием и были прекрасными стилистами. Они умели вести в письмах непринужденный светский разговор и выпукло зарисовывать важнейшие моменты жизни и творчества композитора, исторические события и быт музыкального мира.
Он ехал в Москву, дело о разводе требовало его присутствия. По дороге он обещал Надежде Филаретовне побывать в ее Браилове, где сейчас не было никого и куда она телеграфировала дворецкому о его приезде.
Имение это стоило около трех миллионов и приносило доходу в несколько сот тысяч рублей… Он прожил здесь около двух недель, перед тем как пуститься в московскую жизнь. Здесь все было к его услугам — что-то райское, что-то сказочное было во всех этих ожидавших его желания верховых лошадях, лодках, охотничьих ружьях, собаках, в купальне, фисгармонии, вестовых, которых он мог в любое время дня и ночи посылать на телеграф… Он уехал за день до приезда хозяйки.
Дворецкому Ивану Васильеву в доме на Рождественском бульваре, как и дворецкому Марселю Карловичу в Браилове, было заблаговременно приказано барыней из Парижа: если придет господин Чайковский, музыкальный сочинитель, впустить его, принять, проводить по дому, показать все пятьдесят две комнаты: рояли, библиотеку, фарфор, картины, орган, баню; если изъявит желание — оставить одного, на сколько будет угодно; если пожелает остаться, поселиться в трех, приготовленных ему, комнатах левого флигеля (со Стейнвеем) — ничем его не беспокоить, исполнять малейшее его желание, обед и ужин подавать, когда прикажет и куда прикажет. И то время, когда он будет в доме — час ли, месяц ли, — никого посторонних в дом не впускать и к нему без зова не входить. Самому дворецкому, Ивану Васильеву, подавать к столу, убирать его комнату, сопровождать его в баню...

В пятницу, 29-го числа он решил, что отправится взглянуть на дом «лучшего друга» — на дом, который она предлагала ему, как предложила дом в Браилове: «Нравится? Ну, так и живите, милый, несравненный человек!» — она, этот ангел, которого, как настоящего ангела, он ни разу близко не видел и, вероятно, не увидит никогда.
Когда дворецкий Иван Васильев открыл высокую парадную дверь, он сразу узнал музыкального сочинителя.
— Барыня Надежда Филаретовна, — сказал он, почтительно и ловко помогая снять пальто, принимая шляпу и опытным глазом мгновенно окинув красивую голову гостя, покатые его плечи и сюртук, застегнутый на верхнюю пуговицу. — Барыня Надежда Филаретовна писали из Парижа..
Неловкости Петр Ильич боялся больше всего, но неловкости не было. Распахнулись двери влево и вправо, мелькнула широкая каменная лестница, зеркальный разостлался паркет.
— Пожалуйте.
Смущен был дворецкий: в доме работали обойщики…
Он оглянулся. Он был один в молчании громадного, старого дома. Гостиная, спальня и туалетная комната, уготованные ему, где все дышало и звучало ею, — это была крепость, где он мог защититься от мира, — роялем, кипами нот, книгами, тенью друга, присутствующего незримо, осененный ее крылом, — или просто: у нее под крылышком. Он не знал, с чего начать: он обещал ей до всего дотронуться, сыграть на роялях, перелистать Шумана и Шопена, пересмотреть альбомы. Повторить здесь письмо Татьяны к Онегину, о котором она говорила, что, слушая его, «ощущаешь собственную свою человечность».
И вдруг заметил, что прошел уже час, как он здесь, что он выкурил целую гору папирос и что начало темнеть. И не успел он додумать этой мысли о сумерках, как где-то вдалеке теряющихся комнат задрожал свет. Это Иван Васильев шел к нему с двумя бронзовыми семисвечниками.
Да, слава идет. Ощупью, но подходит. Только бы развязаться с профессорством и погрузиться в сочинительство, где-нибудь на краю света, в райском уголке, благо Надежда Филаретовна не считает присылаемых ему денег...
Вот эти комнаты, полные прелести, тишины, уюта, какой-то роскошной простоты, она предлагала ему, она давала ему тайный рай в самом сердце Москвы — никто не должен был знать, что он живет здесь, только она одна: в Париже, Сан-Ремо, Флоренции будет она чувствовать его присутствие, не рядом с собой, — для этого она слишком умна и добра, а только среди вещей своих. Но нет, жить здесь невозможно — немыслимо жить в плену у женщины, страшно это, да и стеснительно как-то: ну чем все это может кончиться?.. Но как трудно уйти из этого места в свою квартиру на Знаменке, к обыкновенной жизни, с делами, буднями... А уйти надо.
Он еще раз прошел в спальню, заглянул в туалетную. Там, на умывальнике, были разложены новенькие щетки, гребенки, мыла. А у постели, на ночном столике, лежали любимые его бостанжогловские папиросы, лист нотной бумаги и остро отточенный карандаш.
И вдруг в горле у него что-то остановилось, на мгновение сжалась грудь, и тяжело, нестерпимо тяжело и душно стало сердцу. Нет, все это — забота и любовь — не для него. Он не был тем, чем она предполагала.
Когда он ушел, попрощавшись с Иваном Васильевым за руку (выяснилось, что он и по-французски говорит, и по заграницам ездил), и тяжелый русский болт лег поперек двери с французским замком, дворецкий отправился тушить свечи. Он думал о госте, о завтрашнем своем подробном письме к Надежде Филаретовне, о том, как через месяц его на зиму выпишут во Флоренцию, и там, еще раз — и совершенно секретно — он расскажет барыне об этом дне.
Николай Григорьевич знал о помощи, оказываемой Чайковскому Надеждой Филаретовной. Он даже одно время, с подлинно наивной бесцеремонностью пытался помешать этой помощи, грубоватыми намеками уверял Надежду Филаретовну (он у нее бывал), что Чайковскому чем меньше денег давать, тем лучше, — иначе избалуется, разленится, писать не будет…
Чайковский говорил ему, что лекции заставляют его отрываться, работать урывками, что Москва сделает его мизантропом (Надежда Филаретовна звала его во Флоренцию).
Когда она в письме спросила его, не хочет ли он «принести ей жертву» — прожить месяц во Флоренции, — само собой разумеется, она наймет ему дом, абонирует рояль, он не будет видеть никого, если не захочет, — он ответил согласием, и так была снята вилла Бончиани на виале деи Колли. Сама Надежда Филаретовна с семейством жила в полуверсте. Это был дворец некоего Оппенгейма.
Она предлагала ему на выбор: квартиру в городе или дом возле себя. Он выбрал второе. И теперь, когда пара серых, с подстриженными хвостами, лошадей остановилась у крыльца, и лакей, тоже в серой ливрее, спрыгнув с козел, распахнул низенькую дверцу, Петр Ильич на мгновение замер, спустив ногу к подножке: ему показалось, что лучшего места в мире нет и никогда не захочется.
Слуга и повар были наняты заблаговременно, с синьором Бончиани было уговорено: ничем приезжего не беспокоить, со всеми вопросами и расходами обращаться во дворец Оппенгейма.
— А здесь, Петр Ильич, если пожелаете, книги: Надежда Филаретовна отобрала для вас: о Биконсфильде, о Бисмарке (парижское издание), критика Лароша в последнем «Голосе», переписка Екатерины с Гриммом.
— Да, да... Поблагодарите. А как она?
— Страдает головными болями, жалуется на холод... Но бывают дни, когда и гулять выходит, и в крокет играет… Вот здесь ваш слуга найдет русский чай и русские папиросы. Надежда Филаретовна боялась, что здешние окажутся вам не по вкусу.
— Спасибо, спасибо... Она слишком добра.
Она писала:
«Здравствуйте, мой милый, дорогой, несравненный друг! Чувствовать ваше присутствие вблизи себя это такое блаженство, которого никакими словами не выразишь»...
С этого дня началась размеренная, рабочая жизнь. Он вставал в восьмом часу, пил кофе, листал газеты и садился за «Орлеанскую Деву». В 11 часов он знал: она с дочерьми и Пахульским проходит мимо, гуляя перед завтраком. Иногда он не выдерживал, он знал, что она близорука. Он становился за шторой окна, пьяный от работы, с всклокоченной бородой, и смотрел на то, как она проходит. Впереди, весело тряся ушами, бежал Мураско, чудесный их пес. Потом, взявшись за руки, с ужасным желанием нашалить, шли Соня и Милочка, до того очаровательные и живые, что слезы навертывались у него на глазах. За ними высокая, немного сухопарая, с дивными темными глазами, но некрасивая, как уверяли все (в чем и он был согласен), шла она, между дочерьми — Юлией и Лидией, за которой, если день был теплый, шла кормилица в лентах, неся ребенка. Он стоял взволнованный своими мыслями и, случалось, не отходил от окна, пока они не возвращались. Иногда она кидала быстрый, невидящий взгляд на его окна. И опять бежала собака, и детские голоса кричали «Мураско! Мураско!»
Если ночь была ясная, опять выходили они пройтись перед сном: она, старшие дочери, зять, иногда репетитор. По близорукости она не видела прорезанного в ставнях сердечка и думала, что его нет дома, беспокоилась, надел ли он шейный платок в эту свежесть и не слишком ли устает, и куда это он вышел? Он сидел у себя, ворошил в душе какие-то медлительные мысли, слушал себя, говорил себе: «Да, я вполне свободен и счастлив, но мне почему-то грустно до слез» (это было теперь почти всегдашнее его настроение), а она шла мимо твердой мужской своей походкой, не смея поднять лорнет к его окнам, посылая Богу за него какие-то дикие, страстные, материнские молитвы.
Алеша носил во дворец Оппенгейма его письма и бывало, что на полпути он встречался с дворецким, несшим письмо на виллу Бончиани. Она спрашивала его, доволен ли он поваром, предлагала нового фасона абажуры, сообщала про некоего Сарасате, скрипача, и что надо бы ему его услышать. Он писал ей о своем здоровье, о том, как он счастлив Флоренцией, о петербургских новостях, сообщаемых Модестом.
Был декабрь. К Рождеству они уезжали в Вену, а он — в Париж.
Он не был уверен, будет ли она в театре, но в антракте из своего кресла в первом ряду увидел и ее, и все ее семейство в ложах. Да, она была некрасива и, пожалуй, хорошо, что она уезжает: она здесь тяготила его. Все-таки весь этот месяц был отравлен страхом, что она захочет, чтобы он пришел к ней... Он смотрел в бинокль, и чувство любопытства, удивления, умиления росло в нем. Она ни разу не повернула в его сторону свое характерное лицо. Ее профиль был неподвижен. «Мне довольно того, что есть. Мне ничего больше не надо». И возможно, что это было так. Но эта твердость и эта доброта особенно остро беспокоили его.
Об «Онегине» из Москвы ему писали, что Николай Григорьевич и все участники спектакля от оперы в восхищении. В первый раз он прослушал его на генеральной. Он приехал в театр прямо с поезда… Но для Чайковского «суд людской» сейчас уже был не тем, чем был когда-то… Человеческая зависть, человеческая тупость, как бы они ни проявлялись, почти перестали задевать его.
Единственное, что по-прежнему лишало его равновесия, что доводило до припадков бешенства, это были напоминания о себе Антонины Ивановны… И опять она приходила и что-то клянчила, торговалась из-за ста рублей, притворялась, что понимает процедуру развода и согласна на нее. И несколько раз невразумительно намекала, что знает, что у Петички роман с богатой женщиной, с женщиной, которая подсылала к ней, желая от нее откупиться, — с миллионершей фон Мекк.
После кончины мужа в личной жизни Надежды Филаретовны стали проявляться особенности ее душевного склада. Врожденная меланхолия постепенно нарастала, и фон Мекк заболела недугом, называемым ею мизантропией. Светские знакомства и интересы потеряли для нее свою прелесть, она отказалась от всяких светских отношений и замкнулась в семье. Но суровость матери заставляла детей держаться в почтительном отдалении. По словам Модеста Ильича Чайковского, она «оставалась до конца дней своих совершенной невидимкой для всех посторонних, кроме лиц непосредственно служивших ей или состоявших при ее детях».
Фон Мекк была совершенно одинока, и все ее радости сосредоточились на любви к природе, чтению и, главным образом, на страсти к музыке, которая персонифицировалась для нее в образе Петра Ильича Чайковского
Надежда Филаретовна, не понаслышке знавшая о том, о чем писал ей Чайковский, на протяжении всех четырнадцати лет переписки пыталась спасти композитора от уныния, близкого к отчаянию, пыталась «отогреть» его своим искренним участием, чутким вниманием, заботой. Фон Мекк взяла на себя роль покровителя, хранителя его покоя.
Уже вскоре после начала переписки, в ноябре 1877 года, Надежда Филаретовна стала приглашать Чайковского пожить в своих московских домах и имениях в ее отсутствие, обещая полный покой и комфорт.
Все равно он опять решил скрыться из обеих столиц, ничто его не удерживало здесь. Надежда Филаретовна исподволь подготовила его согласие: прожить у нее на фольварке в то самое время, как она будет с семейством в своем Браилове.

Само Браилово? Роскошное, слишком роскошное имение Надежды Филаретовны — слишком новое, чинное и величественное, — где он гостил уже несколько раз в ее отсутствие, стесняясь лакеев... Нет, лучше Симаков, лучше этого, в трех верстах от Браилова, брошенного фольварка, нет ничего.
В трех верстах — он старался не думать об этом — жила она, дети, гости, там текла летняя, шумная усадебная жизнь, оттуда иногда являлся Пахульский с нотами и журналами, — Петр Ильич почти не замечал его…
Встретиться он ни с кем не мог — он знал, что в Браилове обедают в 4 часа. Однажды Пахульский предложил привести к нему младшую дочку Надежды Филаретовны — Милочку, которой он когда-то любовался во Флоренции.
— Ради Бога, пусть все останется так, как было! — почти вскричал он, побледнев. И на этом разговор кончился. Он подозревал, что в Браилове тоже боятся встречи с ним.
Но эта встреча произошла, и для того, чтобы это случилось, надо было очень немного: только небольшого опоздания к обеду трех колясок, трех браиловских троек. Он, как обычно, въехал в лес на своем послушном, почтенного возраста, гнедом, и на повороте, там, где была порубка, прямо на него свернул широкий, комфортабельный экипаж. Он дернул вожжи. Она сидела вдвоем с Милочкой. На ней была узкая тальма, клетчатая косынка вокруг шеи; она держала в своей руке маленькие руки дочери. Он не посмел отвести глаз, и в первый раз в жизни взоры их встретились. На одно мгновение... Он смутился и снял шляпу. Она изменилась в лице, растерявшись, как девочка, почти не успев ответить на поклон. Лошади прошли мимо него, потом мимо него проехали еще два экипажа, — там, кажется, смеялись молодые женские голоса. И все стихло. Он сошел, вздохнул глубоко, чтобы прийти в себя, и медленно пошел под березы, ворошить мох, искать грибы. Сделав круг, он вернулся к порубке, пошел влево, вышел на поляну. Там уже расставлялись стаканы, резался белый домашний сыр. И верховой из Браилова успел уже доставить ему почту: почту Надежда Филаретовна посылала ему в лес, к чаю, и где бы он ни был — посланный должен был его найти…
Теперь, на третий год их переписки, было ясно, что она никогда не потребует иной дружбы с ним, кроме как в письмах, и он на этот счет успокоился совершенно. Но то, что она все-таки живой человек, а не тень, с которой у него ведется нескончаемая, взволнованная беседа, продолжало его тревожить, больше, чем когда-либо. Он сам не знал, что ему хотеть — иногда он только и мечтал, чтобы быть «у нее под крылышком», иногда он бунтовал против ее строгой, сильной воли. Она понимала его так, как ни один из его друзей — музыкантов, поэтов, простых смертных, знала его почти как брат Модест, и все-таки чего-то основного она в нем не знала, если могла так глубоко и беззаветно любить.
Но, может быть, все-таки это была ловушка? Иногда Чайковскому казалось: она ждет его, тайно требует его прихода. Она и правда все делала для того, чтобы он пришел: жила там, где жил он, и в то же самое время; в Париже — где между ними еще меньше было расстояния, чем во Флоренции, — она вдруг, ссылаясь на нездоровье, начинала реже писать ему, просила и его «не утомлять» себя, писать не чаще, чем раз в неделю, словно толкала его заменить переписку — свиданием. Самый голос ее в письмах становился менее сдержанным: если в начале она несколько раз говорила ему о своем чувстве больше, чем следовало, то тут же просила отнести это за счет горячности своей природы. Теперь несдержанность стала основным тоном ее писем, и тем осторожнее и суше делался в переписке он.
Он начинал бояться, что потеряет свою свободу — или потеряет денежную помощь Надежды Филаретовны, что было, может быть, еще страшнее. Модест, недавно встретивший Надежду Филаретовну на улице, впрочем, писал ему, что она «сделалась старенькая». Он боялся, что она узнает о нем «всю правду», разлюбит, прогонит от себя. Подозрения о нем у нее были: она, умнейшая из женщин, считала, что он никого никогда не любил только потому, что не нашел еще той женщины, которую любить стоит, мечтала, что ему, такому, каков он есть, и не нужна будет никакая другая женщина — если она поддержит с ним эту страстную переписку.
«Я всю прошлую ночь видела Вас во сне, — писала она теперь, — Вы были такой славный, мое сердце рвалось к Вам...» «Какое счастье чувствовать, что Вы находитесь у меня, que je vous possede» (что я Вами владею (франц.))... «Если бы Вы знали, как я люблю Вас. Это не только любовь, это обожание, боготворение, поклонение...»
Сквозь ее насыщенную семейными и деловыми заботами жизнь проходила эта любовь — неосуществимая, одинокая, — единственным выражением которой были письма, единственной реальностью — жизнь вблизи Чайковского. Она считала дни от Браилова, где он гостил, до Неаполя — где должен был быть одновременно с ней; от Парижа, где она сама сняла ему квартиру, до Москвы, где он мог пройти мимо ее дома. Она старела и безумствовала, и иногда сама не понимала, что с ней происходит. Бывали дни, когда в ней просыпалось что-то материнское к нему, и ей от этого чувства становилось еще больнее:
«Мне так хочется все знать, что Вас касается. Я жалею, что я не знала Вас с самой колыбели, что Вы не на глазах у меня выросли, развивались».
В семье ее смутно знали о ее отношении к Чайковскому, считали ее неисправимой меценаткой. Она и впрямь помогала бедным, безвестным молодым музыкантам: в доме ее жили окончившие консерваторию скрипачи и пианисты. К Чайковскому, впрочем, ее близкие вскоре начали относиться с особенным уважением. Ее дочка Милочка научилась целовать его портрет, стоявший у нее на столе, окруженный ландышами (его любимые цветы); сын Коля разучивал вместе со старшими сестрами его романсы. В минуты самых страстных своих желаний, доводивших ее до полной потери власти над собой, она подменяла в письмах поклонением его музыке свое неистовство к нему:
«Мой милый обожаемый друг! Пишу Вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который, вероятно, расстраивает мне здоровье и от которого я все-таки не хочу освободиться ни за что, и Вы сейчас поймете почему. Два дня назад я получила четырехручное переложение нашей симфонии и вот, что приводит меня в такое состояние, в котором мне и больно и сладко. Я играю — не наиграюсь, не могу наслушаться ее… Боже мой, как Вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдание, и все-все, чего так много перечувствовала в жизни я и что делает мне эту музыку не только дорогою, как музыкальное произведение, но близкою и дорогою, как выражение моей жизни, моих чувств. Петр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии так оценить ее, как я, музыканты могут оценить ее только умом, я же слушаю, чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать ее, я умру, а все-таки буду слушать. Вы не можете себе представить, что я чувствую в эту минуту, когда пишу Вам и в это время слышу звуки нашей божественной симфонии.
...Можете ли Вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно Вас, при отсутствии личных сношений между нами? Знаете ли Вы, что я ревную Вас самым непозволительным образом: как женщина — любимого человека? Знаете ли, что когда Вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько, мысль о Вашей близости с этой женщиной была для меня невыносима, и знаете ли, какой я гадкий человек? — я радовалась, когда Вам было с нею нехорошо; я упрекала себя за это чувство, я, кажется, ничем не дала Вам его заметить, но тем не менее уничтожить его я не могла: человек не заказывает себе своих чувств. Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с ней нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла от меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас, как никто, ценю выше всего на свете. Если Вам неприятно все это узнать — простите мне эту невольную исповедь. Я проговорилась — этому причиною — симфония. Но я думаю, и лучше Вам знать, что я не такой идеальный человек, как Вам кажется. К тому же это не может ни в чем изменить наших отношений. Я не хочу в них никакой перемены, я именно хотела бы быть обеспеченною, что ничто не изменится до конца моей жизни, что никто... но этого я не имею права говорить. Простите меня и забудьте все, что я Вам сказала... Простите и поймите, что теперь мне хорошо, что мне ничего больше не надо...»
Ожидая его прихода и боясь, что это случится, она всю силу своей любви обращала на то, чтобы сохранить его пленником на расстоянии. Иногда она принималась рассуждать в письмах о любви. У нее было твердое убеждение, что брак — всегда несчастье, что «близкие отношения» — конец любви. Она писала, что, быть может, называет дружбой то, что люди называют любовью, но не хочет говорить о любви, когда дело идет о себе, потому что любовью называют люди глупое и обреченное чувство юных влюбленных, чувство, питающееся свиданиями, прикосновениями, то есть всем тем, от чего гибнет любовь. Ни в жизни, ни на сцене юные влюбленные ее никогда не трогали. Из всех чувств она признавала только одно свое чувство к Чайковскому, и в этом чувстве, сводившем ее с ума, питавшемся его музыкой, она хотела навеки замереть в нестерпимом, блаженном одиночестве.
«Сегодня буду играть в четыре руки Ваши сочинения, буду восхищаться и возбуждаться...»
Он был благодарен за все, постепенно привык не дрожать за свою свободу и даже именно в продолжении своих отношений с Надеждой Филаретовной отчасти увидел эту свободу — материальную свою независимость.

А переписка шла своим чередом. Постоянный обмен письмами уже вошел у них в привычку. С ее стороны сохранялись беспредельная заботливость о его популярности и материальном благополучии, восторженное преклонение. С его — благодарность, дружеское расположение, учтивость, а временами некоторое стеснение.
Отношения Чайковского и фон Мекк полностью исчерпывались перепиской, длившейся с 1876-го по 1890 год. За неполные четырнадцать лет они написали друг другу около тысячи двухсот писем. Чайковский, конечно же, виделся с ее детьми, своей новой родней, оживленно переписывался с ее сыновьями Александром и Николаем, но Надежда Филаретовна всегда оставалась для него лишь «добрым, но невидимым гением».
К 1880 году многое изменилось в России в отношении к нему… За эти три года, пока он метался по Европе, он стал в России почти знаменит. От того дня, как впервые в Москве была сыграна Четвертая симфония, до января 1881 года, когда были поставлены «Онегин» и «Дева», его имя обросло славой…
В память «Орлеанской девы», писанной в Браилове в 1880 году и в ответ на «Воспоминания дорогого места», Надежда Филаретовна подарила Чайковскому эмалевые часы. Через два года после этого Браилов был продан. Часы остались не только как память о прожитых там безмятежных, волшебных неделях, не только как память об опере, которая была задумана и написана в годы самой близкой и глубокой их дружбы, но и как воспоминание о каком-то почти невероятном между двумя людьми душевном и духовном унисоне.
Часы были заказаны в Париже и стоили десять тысяч франков. Обе крышки были из черной эмали с золотыми звездочками. На одной стороне была нарисована Жанна д'Арк на коне, на другой — Аполлон с двумя музами. Чайковский долго держал в руках эту драгоценность — у него были долги, но ни продать, ни заложить ее он не посмел.
Куда шли деньги, он и сам хорошенько не понимал. Шесть тысяч в год выдавала ему Надежда Филаретовна, не считая тех денег, которые она под разными предлогами (срочная поездка, семейные обстоятельства, издание сочинений), посылала ему и от которых он никогда не отказывался. На эти деньги да на музыкальные доходы можно было спокойно жить в России и за границей. Но почему-то всегда получалось так, что ему не хватало и он должал.

Почти два раза в год описывал он круг: Москва, Петербург, Берлин, Париж, Италия, Каменка, Москва, с заездами к брату Толе, или в новое, купленное вместо Браилова, Плещеево Надежды Филаретовны, где его встречали прежнее браиловское приволье, роскошь и одиночество… И вот осторожно воскресала в нем старинная мечта: старческая мечта, появившаяся впервые, когда он был еще молодым (и уже усталым), мечта о своем угле, о тихой жизни и о пристанище, пусть одинокого, но верного отдыха… Купить или снять дом, где вокруг шумели бы деревья, где бы вечерами горел камин — житейский, банальный и благостный уют! …В Клинский уезд привели его поиски… Сюда переехал Чайковский в феврале 1885 года.
Надежда Филаретовна написала ему, что радуется тому, чему радуется он. Она счастлива, что он обрел «тихую пристань». Но в глубине своего сердца она поняла в тот год, что вне ее, без нее Чайковский устроил свою жизнь. И что это уже навсегда.
С Надеждой Филаретовной в последнее время они несколько раз в письмах спорили о камерной и оперной музыке. Она опер не любила. Он же считал, что только оперой может музыкант найти путь к «широкой публике». Она любила квартеты, трио — он трио ненавидел, называл трио варварством и какофонией, и сколько она ни просила его написать для нее трио, этого не сделал...
Он считал, что ее любовь к уединению заставляет ее всему предпочитать камерную музыку — даже секстет его слушала она у себя дома, а выезжать в театры доставляло ей все меньше и меньше удовольствия.
И было еще сознание, что с Надеждой Филаретовной какое-то взаимное понимание идет на убыль, — едва заметно, — что она ему уже так непрерывно и остро не нужна, как бывало когда-то. Но в этом он еще не всегда признавался себе.

Он был уже в том периоде славы, когда не он гонится за людьми, а его ищут. «Черевички» были немедленно взяты Москвой для постановки. Осенью ему предложили дирижировать оперой… Уговорил Танеев. И хотя Надежда Филаретовна писала, что лучше ему не пускаться в дирижерство, что это ему ничего не придаст, а только его утомит и оторвет от занятий, — он послушался Сережу… 7-го января Петр Ильич с братом уехал в Москву и остановился в доме Надежды Филаретовны, на Мясницкой…
Чайковский провел здесь весь январь и начало февраля. «Живу у Вас, как у Христа за пазухой», — писал он Надежде Филаретовне из «Мясницкого дома». В дневнике Петра Ильича за 1887 год не раз встречаются записи: «На Мясницкой», «Дома (Мясницкая)». Для Надежды Филаретовны, знай она о таких пометках, эта краткая запись — «дома» — была бы лучшей благодарностью за ее гостеприимство.
Его бросало по России: после дирижерства «Черевичками» его стали приглашать не только как автора тех или иных вещей, но и как дирижера. В Петербурге устраивается концерт из его произведений, в Москве он дирижирует «Моцартианой»...
Старость надвигалась — по годам еще рано, но он уже чувствовал ее шаги. И это тоже было что-то, что нужно было скрывать: неготовность свою к смерти. Как много в жизни приходилось ему скрывать!
Для этого, не для чего другого, он завел дневник… Он писал потому, что некому было сказать самое тайное, самое скрытное: о любви своей к Бобу; о том, как иногда докучает ему Алеша, о Надежде Филаретовне, которой все чаще не хочется отвечать на письма и которая не может понять, что ему не хватает денег.
Накануне 1888 года Чайковский выехал за границу... Он решил сделать концертное турне… Он ехал и как композитор-симфонист, и как дирижер: прошло два года со дня первого представления «Черевичек»… Теперь он был признанным европейским музыкантом… За границей он получил извещение от министерства двора, что ему обещана пенсия от государя... Денежные дела его, несмотря на пенсию, запутаны.
В один из его приездов в Петербург к нему обратилась дирекция Императорских театров с заказом: написать балет. Косвенно ему намекнули, что этого хочет государь… Это была «Спящая красавица».
Переписка его начала разрастаться давно, но после последней поездки по Европе ему приходилось иногда писать до тридцати писем в утро. Надежде Филаретовне в последнее время он почти перестал писать о себе, да и ей становилось все труднее с годами держаться прежнего напряженного тона, — она старела, у нее появились странности, она более, чем когда-либо окружала себя музыкальной молодежью, сопровождавшей ее и за границу, и в ее Плещеево. Она стала совсем нелюдимой. Теперь Чайковский писал ей больше о красотах Клинской природы или Кавказских гор, о цветах, им посаженных в саду, иногда просил денег вперед — она по-прежнему была щедра и по-прежнему исполняла все его намеком брошенные просьбы.
Его потянуло в Италию… Он уехал с первым действием либретто «Пиковой дамы» в кармане… С готовым клавиром он вернулся в Россию… В Петербурге — нарядная, торжественная постановка, в Киеве — со вкусом сработанный спектакль...; новые заказы — на оперу, на балет… Хотелось писать, хотелось мечтать, хотелось многого... Надо было ехать в Америку: оттуда предлагались деньги, огромные, фантастические. Он никогда до того не видел таких денег. «Щелкунчик» и «Иоланта» были вместе заказаны и обдумывались вместе, но он отложил их осуществление на год. Он уезжал в Америку.
Иногда ему казалось, что путешествует какой-то «не-я»… «Я» среди этой радушной и расположенной к нему толпы было совершенно одно. Одно на чужбине, одно — на родине, одно на всем свете. Кому был он нужен? И даже Надежды Филаретовны больше не было у него.
Но ради истины нельзя умолчать и о дневниковой записи Чайковского, сделанной десять лет спустя после начала переписки, в 1888 году. В ней Петр Ильич неожиданно исповедуется в том, что порой «рисуется» в своих письмах, не всегда бывает в них искренним и заботится о том, «какое впечатление произведет письмо, и не только на корреспондента, а и на какого-нибудь случайного читателя». Возможно, он и сгустил краски в таком откровенном саморазоблачении, но все же в его письмах нельзя не признать некоторой доли искусственности и фиктивности. И это понятно: материальная зависимость не могла не внести некоторой напряженности. Как ни старался Чайковский уверить друга, что он не чувствует «той условности, которая лежит в основании обычных людских отношений», но в откровенных письмах к братьям он признавался, как тяжела была ему порой эта зависимость. Чайковский ждал, внутренне почти требовал субсидии, но он боялся обязательств, и территориальная близость, подчеркивавшая неловкость положения, просто сердила его.
Между тем с каждым годом количество писем уменьшалось, менялся характер переписки. Чайковский стал знаменит и более уверен в себе. Оба постарели. Не было уже в их письмах той насыщенности и напряженности, которыми отличались ранние послания. Под конец они даже писались от случая к случаю. Письма Чайковского стали более сдержанными и давали, главным образом, внешнюю канву его жизни.
К этому времени все самое главное было высказано, Чайковский раскрыл себя своему лучшему другу с предельной полнотой. Творчество, поток новых форм музыкальной деятельности, все расширяющийся круг друзей и знакомых захватывал композитора, оставляя все меньше и меньше времени на интимную, сердечную беседу, каковой являлась переписка двух близких людей. В круговороте жизни Чайковский, может быть, и не сознавал, что его письма стали иными. Фон Мекк же в своем одиночестве — дети, становясь взрослыми, уходили из дома — еще сильнее испытывала потребность в общении с композитором, но понимала, что это невозможно.
Измена ей, измена «лучшему другу», началась издалека, и к 1888 году, когда он совершил свое по-настоящему победное путешествие по Европе, он впервые почувствовал неизбежность конца этой дружбы. Надежда Филаретовна продолжала искать в нем то, что открылось ей в начале их переписки. Он же не принадлежал уже прежним творческим мыслям, они отошли и питали его только в те часы, когда он писал, остальное же время предоставляя ему вести свою азартную, хлопотливую, удачливую и изнурительную политику славы. Он стал замечать, что между тем, что она о нем думает, и тем, что он есть на самом деле, разверзается пропасть, которую у него нет ни сил, ни времени засыпать. Она думала, что он волшебник, живущий в музыке, — он стал на музыку смотреть отчасти, как на средство добиться всемирности; она думала, что он слишком занят творчеством и потому редко пишет, — он писал каждый день два десятка писем, и со многими ему было нужнее переписываться, чем с ней; она думала, что он добр и равнодушен к деньгам, — он становился все требовательнее, и даже то, что он продолжал поддерживать с ней переписку, сам иногда в глубине души истолковывал, как заинтересованность свою в ее денежной помощи.
Она думала, что он «дух», — он очень заботился о своем теле. Она думала, что он, по душевной мягкости своей, любит детей, — он бегал за маленькими майдановскими школьниками, боясь быть замеченным взрослыми. Она думала, что рюмка коньяку лечит его от бессонницы, — он иногда пьянствовал до беспамятства. Она думала, что он в жизни своей не нашел той женщины, которую мог бы любить, — для него всякая женщина была Антониной Ивановной.
В первые годы она своими письмами делала его таким, каким любила. Он, действительно, становился ее. Но седина, болезни, бессменная тоска, успех и вся вообще сумятица и трудность даже самой «блаженной» из блаженных жизни не дали ему удержаться на той высоте, на которую она поднимала его. И тут между ними наступил разрыв.
Он постепенно привыкал к этому и не увидел или почти не увидел его. Но настал день, когда и Надежда Филаретовна внезапно его осознала. Надежда Филаретовна была не из тех, которые примиряются, уступают, прощают, подлаживаются, закрывают глаза, — она оборвала сразу и навеки.
Ее многомиллионное состояние, сделанное ею и покойным мужем, собственной энергией, умом и трудом, в это время было уже не тем, что двенадцать лет тому назад. Чайковский же зарабатывал, и зарабатывал хорошо, собирался купить дом. При ее прямоте и правдивости ей не нужен был повод, чтобы разорвать, но пошатнувшиеся ее дела оказались поводом. Она написала Чайковскому, что больше помогать ему не будет.
«Не забывайте и вспоминайте иногда»...
Но разве нельзя было продолжать писать друг другу хоть изредка? Разве денежная помощь ее была единственным основанием их переписки? — ничего не понимая, думал он.
Что-то, казалось, переполнило внезапно чашу ее знания о нем. Наступил день, когда она, тринадцать лет его знавшая, узнала о нем последнюю правду — от собственного брата — и вычеркнула Чайковского из своего сердца. Потеря шести тысяч в год сейчас уже не была для него катастрофой, — это была только крупная неприятность. Он ответил на ее письмо немного высокопарно, но хорошо, — и на это письмо уже не получил ответа. Это его мучило. Он написал еще раз. Молчание. Он прождал полгода, пытаясь через сына ее, женатого на его племяннице узнать, неужели она так-таки оставила его? Он не узнал ничего. Вернувшись из Америки, в июле 1891 года он обратился к Пахульскому с длинным письмом, он умолял его, чтобы тот сделал так, чтобы она вновь обернулась в его сторону. Она не обернулась.
Она была старше его на девять лет, но почему-то, когда он думал о своей смерти, ему казалось, что она переживает его и будет где-то близко от него. Теперь он остался один и в смерти и в жизни. «Блаженство» кончилось. Осталась обида.
С ею подаренными эмалевыми часами он не расставался. Это, может быть, был фетиш. Когда приходилось отдавать их в чистку, он бывал беспокоен. После приезда из Америки он опять жил в Майданове, на даче, которую снимал. Было лето. Ответа от Пахульского все не было. И вот однажды под вечер, когда окна в доме были раскрыты (а он носил блузу, и не было карманов), часы украли с его письменного стола.
Неужели, действительно, так-таки все было кончено, и даже слабый вещественный след единственной в мире дружбы не уцелел?

Майданово вдруг опротивело Петру Ильичу. Он решил бросить его, купить, наконец, дом в Клину. «Про черный день» откладывать он не умел. Опять и даже больше, нежели раньше, он делал долги. И снова дом был не куплен, а снят, большой двухэтажный дом, стоявший на этот раз не в парке, не среди дач, а на окраине Клина… Фотографии он любил, и по тогдашнему обычаю развешивал их тесно одну подле другой. И Надежда Филаретовна была здесь, в высокой, неуклюжей своей прическе, и все друзья — мертвые и живые.
За славой, а главное — за деньгами приходилось ездить и по России, и по загранице… В этих поездках жизнь возвращала ему забытых людей… Жизнь, отняв у него «лучшего друга», может быть, хотела вознаградить его за эту потерю, но награды эти казались ему, при всей их прелести, слишком ничтожными. Надежды Филаретовны он все равно забыть не мог.
1893 год. Он выехал в Петербург 9 октября… Никто не провожал его. Он этого не любил. Кашкин, старый друг, был у него в гостинице при отъезде. Они курили и вспоминали старину… Они перебрали многих. От музыкантов и близких перешли к известным московским людям. Вспомнили покойного Третьякова, Кашкин назвал Надежду Филаретовну:
— Умирает? — вскричал Петр Ильич. — Не может быть!
Нет, она не умирала, но говорили, что она больна нервным расстройством, не узнает, не понимает... Старший сын ее, умственно больной от последствий сифилиса, просадил все наследство фон Мекков на женщин и игру, и теперь они разорены, как говорят, и «старуха» живет в бедности...
Чайковский хмуро смотрел в сторону.
Квартира, которую Модест и Боб только что сняли и в которой едва закончен ремонт, — на Малой Морской… На следующее утро он жалуется Модесту на желудок. Он ел у Лейнера макароны, и, значит, беды никакой нет. Но надо принять касторку, к касторке он прибегает очень часто… и отпивает несколько глотков воды из графина. Его хватают за руку: вода сырая!
До вечера он лежал, не позволял звать врача, страдая, как, впрочем, страдал часто… Когда он просыпается, доктор Бертенсон стоит над ним. Он требует показать язык… Ни синевы, ни судорог, но доктор угадывает холеру.
И в воскресенье ему почти уже не было дела до того, что творится вокруг него. Он сводил с кем-то счеты в бреду, он гневно упрекал, он рыдал, он выговаривал кому-то. Это была Надежда Филаретовна. Он несколько раз в слезах прокричал это имя. Потом он открыл глаза. Боб стоял над ним. Он закрыл их опять, не сказав ни слова.
— Надежда Филаретовна... Надежда Филаретовна... — затихало его бормотание.
Переписка Чайковского с фон Мекк оборвалась по инициативе Надежды Филаретовны так же неожиданно, как и началась. Прекратилась без явных поводов к тому, без прощальных слов, упреков и объяснений. Последнее письмо фон Мекк не сохранилось. Из ответного же письма Чайковского от 22 сентября 1890 года известно только, что она уведомила его о своем финансовом крахе, о прекращении субсидии.
Похоже, в последнем письме она просила Чайковского не забывать ее и вспоминать хотя бы иногда. Петр Ильич горячо отвечал ей: «Неужели Вы считаете меня способным помнить о Вас только, пока я пользовался Вашими деньгами! Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что Вы для меня сделали и сколько я Вам обязан! Скажу без всякого преувеличения, что Вы спасли меня и что я наверное сошел бы с ума и погиб бы, если бы Вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали Вашей дружбой, участием и материальной помощью (тогда она была якорем моего спасения) совершенно угасшую энергию и стремление идти вверх по своему пути! Нет, дорогой друг мой, будьте уверены, что я это буду помнить до последнего издыхания и благословлять Вас». Письмо Чайковского осталось без ответа.
Чайковский воспринял разрыв чрезвычайно болезненно и чувствовал себя уязвленным. Он писал Пахульскому, что по желанию фон Мекк их переписка оборвалась именно после того, как он лишился ее материальной поддержки. «Такое положение унижает меня в собственных глазах, делает для меня невыносимым воспоминание о том, что я принимал ее денежные выдачи, постоянно терзает и тяготит меня свыше меры». Он испытывал страшные нравственные муки.
Так из жизни Чайковского ушел близкий человек, покровитель и друг, которому он был столь многим обязан. До самой смерти в 1893 году композитор сохранял память о Надежде Филаретовне фон Мекк. Первая подаренная ею фотография в последние годы жизни Петра Ильича стояла на его письменном столе, другая висела на стене.
С полной отрешенностью от мира и с душевной болью доживала свои годы и Надежды Филаретовна. И не только с душевной. В последние годы жизни она сильно хворала, по нескольку дней кряду мучилась безумной головной болью, постепенно глохла, с трудом ходила из-за ревматизма. У нее давно уже началась сухотка правой руки, и письма свои она могла писать, только ведя правую руку левой или же диктовать их. Старый туберкулезный процесс перешел на горло, и она разговаривала лишь шепотом. В 1889—1890 годах у фон Мекк обострилось тяжелое нервное заболевание, глубоко взволновавшее всю ее семью. Причиной тому были в большой мере неудачи в жизни младших членов семьи, неудачи материальные и нравственные. Состояние, созданное ее трудами, сильно пошатнулось, пришлось сократиться в расходах, она была вынуждена лишать своей поддержки всех тех, кто мог прожить без ее помощи. В 1890 году умер ее брат Владимир Филаретович Фроловский. Но самым тяжелым было то, что на ее глазах умирал от длительной мучительной болезни старший любимый сын Владимир. Она стала усердной христианкой, заказывала молебны и другие обряды.
Возможно, Надежда Филаретовна решилась на разрыв отношений с Чайковским и под давлением родных, раздраженных длительной и чрезмерно высокой, по их мнению, денежной помощью композитору, а также странными, вызывающими разговоры в обществе, отношениями между ними. Словом, можно с полной уверенностью говорить о том, что этот разрыв был причиной глубоких душевных страданий для них обоих.
Как писала в своих воспоминаниях Анна Львовна Мекк-Давыдова, племянница Чайковского и невестка фон Мекк, Надежда Филаретовна тяжело переживала разрыв с композитором: «Я знала, что я ему больше не нужна и не могу больше ничего дать, я не хотела, чтобы наша переписка стала для него обузой, тогда как для меня она всегда была радостью. Но на радость для себя я не имела права».
При этом фон Мекк все же чувствовала себя виноватой, зная, какие страшные моральные последствия имеет для Чайковского ее решительный шаг, и это только усугубляло ее страдания. Приступы черной меланхолии, случавшиеся часто и прежде, стремительно перешли в неизлечимую душевную болезнь. Она попала в психиатрическую больницу. Надежда Филаретовна фон Мекк скончалась в Ницце 14 января 1894 года.
Автор: Татьяна Голубинская www.xcursio.ru

