История рода Фон Мекк
В доме-усадьбе великого композитора не бывает суеты. Он живёт по давно устоявшимся прописанным правилам. По вечерам, когда здесь особенно тихо, можно услышать "передвижение" по комнатам духа. В том, что он постоянный обитатель этого дома, работники музея не сомневаются.
Верным хранителем духа музея десятки лет была Ксения Юрьевна Давыдова, правнучка известного декабриста, похороненного на Троицком кладбище Красноярска. Весной этого года исполнилось 100 лет со дня её рождения. Не удивительно, что на торжество в Клин отправился журналист "Красноярского рабочего", тем более что приглашение мы получили от хорошо нам знакомого московского дворянина и учёного Георгия Давыдова. Читатель нашей газеты уже знает его как человека, отчасти определяющего транспортную политику страны.
Сам Георгий Ефимович вырос в этом музее. Мать вела архив, переписку на нескольких языках и постоянно была занята. Мальчик жил своим внутренним миром. Работники музея помнят, как он забирался на подоконник и, свесив ножки из окна второго этажа, пел про Гошеньку хорошенького.
Ему по наследству достался безупречный музыкальный слух. Дед за золотую цепь и золотые часы в самом начале революции купил его отцу рояль. Ефим Давыдович Гершовский окончил Московскую консерваторию, но пианистом не стал. Возглавил музей Чайковского, первый и главный в мире мемориальный музыкальный музей.
В 1941 году в Воткинск, куда была эвакуирована часть музейных ценностей из Клина, приехала балетмейстер-репетитор Ксения Давыдова, внучатая племянница Чайковского. А через год она здесь встретилась с Гершовским, что определило её судьбу. Судьбу во многом трагическую. Но тайны трагедии К. Ю. (Кэю - так она сама себя называла) сегодня охраняются так же строго, как личный архив самого Петра Ильича (Пиченьки).
Японцы считают: чтобы понять Чайковского, надо увидеть, как небо сливается с землёй. Его музыка есть огромное философское пространство, которое ощущаешь в музее, даже когда молчит знаменитый рояль. Сохранить для потомков этот островок человеческой памяти взяла на себя семья Давыдовых. Отец Ксении Юрьевны, Юрий Львович, как и старшая сестра Ирина Юрьевна, был столпом жизни музея. Не случайно в некрополе Чайковских у его могилы растёт одно из самых могучих деревьев на Демьяновском кладбище.
Музыковеды признают, что во многом благодаря Давыдовым этот музей не был закрыт или растащен в смутные времена. Музею Чайковского в Каменке повезло куда меньше - всё русское там отодвинуто на задний план.
На 100-летие Ксении Юрьевны прибыли гости и из Воткинска. Директор музея Анна Васильевна Боголюбская, как выяснилось, наша землячка. Она родилась и выросла в Боготоле. Ксения Юрьевна наставляла её когда-то не создавать музей в Воткинске по образу и подобию клинского, ведь там Пиченька был маленький, а в Клину доживал свои дни. Данный завет Анна Васильевна выполнила.
Хранительницей клинского архива вот уже несколько лет является Полина Ефимовна Вайдман. Когда-то, ещё студенткой Гнесинского училища, в числе многих она попала в музей на практику. Ксения Юрьевна её заприметила и благословила, как в своё время Николай Второй положил руку на её детскую головку (мать К. Ю. из древнего, но обедневшего рода Евдокии Лопухиной, жены Петра Первого, а прапрабабушка была племянницей Потёмкина).
В Гнесинке на распределении ей задали только один вопрос: сколько ты будешь получать за преданное служение искусству? Услышав ответ, девушку приняли за душевнобольную.
В этом беззаветном служении и страшной бедности у неё промелькнули десятки лучших лет. Они ушли на монотонную сверку документов, поиск архивных ценностей. Однако эти ценности, по примеру Ксении Юрьевны, Полина ставила выше личных. Её заряжало положительной энергией уже то, что в углу её рабочего кабинета лежали детские рукописи Чайковского...
В музее запечатлена жизнь человека так, как даже сам о себе Пётр Ильич не смог бы рассказать. Несомненно, и это было заслугой Ксении Давыдовой. Обстановка и документы свидетельствуют: Пётр Ильич был почти круглосуточно творчески заряжен. "Пиковую даму" он написал за 44 дня, Шестую симфонию - за три недели. При этом ещё вечерами ходил в итальянские театры. Постоянно перечитывал изречения Гоголя, Шопенгауэра. Фраза: "Мир - это я!" у него была обведена кружочком и рядышком стоял восклицательный знак.
Для Ксении Юрьевны и её учеников огромной Вселенной, космосом человеческой души был Пётр Ильич Чайковский. Именно поэтому гости, пришедшие к ней на юбилей, несли те цветы, что любил Пётр Ильич. Это ландыши.
Татьяна Алексеевна Себенцова ландышей в Москве не нашла, а купила в метро васильки. Правнучатая племянница великого композитора живёт на окраине Москвы в маленькой "хрущёвке". Всё её богатство - письма, фотографии, книги. В Центральном государственном архиве открыты личные фонды на имя её матери Люцерны Николаевны фон Мекк. Туда же она отдала и всю переписку с Давыдовыми.
Татьяна Алексеевна, пожалуй, одна из самых родовитых москвичек. Но никакой столичной чванливости! Её отец был профессором пения Ливанской консерватории, национальной консерватории в Бейруте, пел с Шаляпиным в Париже, был солистом Большого театра. Но всех заработанных денег хватило только на покупку маленькой квартирки в Твери, куда он переехал уже в очень преклонном возрасте после смерти Сталина. Однако никогда Татьяна не слышала от родителей, бабушки, дедушки, что большевики что-то у семьи отобрали. Ей запомнилось: "Что мы натворили!"
Её предки отдавали имения, мебель, бесценные картины, объясняя своим детям, что так надо людям. И Татьяна Алексеевна не сомневается в этом до сих пор.
Дома я застала её за интересным занятием. Татьяна Алексеевна писала отчёт своей дочери Ладе о том, как прошла встреча в Клину. На конверте адрес: "Англия. Лондон. Фелтам..." (дальше всё на английском). Историю о том, как её тётя (русская женщина) спасла малолетнюю дочь от голода и плена, увезя за границу, много лет скрывая от девочки тайну её происхождения и имя настоящей матери, моя собеседница уже может рассказывать. Слушать это невозможно.
Сегодня Лада сама мама и почти каждый год приезжает с детьми в Москву. Но вот загадка: на каком языке они общаются, если по-английски мама Таня может писать только со словарём, глубже освоив в детстве французский? Лада же русский и французский знает настолько плохо, что день рождения мамы путает с Рождеством. Как они разговаривают? Глазами. Мокрыми от слёз.
Снова личная трагедия. Но чем больше я общаюсь с Георгием Ефимовичем Давыдовым и его большой семьёй, тем отчётливее понимаю, что трагичны были тогда многие дворянские судьбы, а тем более Давыдовых - Чайковских - фон Мекков. Три славные родовые ветви настолько тесно переплелись, что распутать их вряд ли возможно.
Десять лет назад Татьяна Алексеевна в числе других членов Российского общества наследия декабристов посетила Красноярск. Два её "рыцаря" дни и ночи напролёт рисовали сложные схемы, пытаясь разделить корни древнего генеалогического древа, но все попытки оказались тщетными. В память о той поездке у неё остался маленький камешек, взятый в Овсянке со святой земли Виктора Петровича Астафьева.
В пожелтевшей газетной вырезке "Красноярского рабочего", что Татьяна Алексеевна любовно сохранила, читаю, как приветствовал в краевом центре гостей начальник городского управления культуры: "В то время как большинству наших людей нет дела ни до декабристов, ни до истории вообще - слава богу, что остались ещё энтузиасты, которые этим занимаются профессионально и с любовью!"
Сейчас бы я чиновника поправила: они этим не занимаются, они этим живут. А профессионально сын Татьяны Алексеевны занимается, к примеру, государевыми делами, являясь одним из руководителей правительства РФ. Наш друг Георгий Ефимович Давыдов также весьма занятой человек, но одержим сейчас идеей выпустить ещё одну книжку о своём родовитом семействе. Как мне показалось, младшему из Давыдовых, Олегу, идея понравилась. Глядишь, кто-то из красноярцев возьмётся подсобить.
Первое издание мгновенно было раскуплено. Значит, кому-то наша история всё же интересна?
Татьяна МАКОГОНОВА. Красноярск - Москва - Клин - Москва - Красноярск.
НА СНИМКАХ: этот дом стал принадлежать П. И. Чайковскому после его смерти; Т. Себенцова: "Неужели Ксении нет с нами?"; родственники Чайковского - друзья "КР"; в кабинете Петра Ильича рояль молчит не всегда.
Фото Олега ДАВЫДОВА.
 Алексей Щусев: зодчий всея Руси. Избранные главы. Александр Васькин. Журнал Москва. Окт 2014
Алексей Щусев: зодчий всея Руси. Избранные главы. Александр Васькин. Журнал Москва. Окт 2014
оригинал статьи: http://www.moskvam.ru/publications/publication_1194.html <<---- к списку статей----<<
Александр Анатольевич Васькин родился в 1975 году в Москве. Российский писатель, журналист, историк. Окончил МГУП им. И.Федорова. Кандидат экономических наук.
Автор книг, статей, теле- и радиопередач по истории Москвы. Публикуется в различных изданиях.
Активно выступает в защиту культурного и исторического наследия Москвы на телевидении и радио. Ведет просветительскую работу, читает лекции в Политехническом музее, Музее архитектуры им. А.В. Щусева, в Ясной Поляне в рамках проектов «Книги в парках», «Библионочь», «Бульвар читателей» и др. Ведущий радиопрограммы «Музыкальные маршруты» на радио «Орфей».
Финалист премии «Просветитель-2013». Лауреат Горьковской литературной премии, конкурса «Лучшие книги года», премий «Сорок сороков», «Москва Медиа» и др.
Член Союза писателей Москвы. Член Союза журналистов Москвы.
«Хованщина» в русской архитектуре
После создания Марфо-Мариинской обители Щусев будто поднимался по ступеням. Все выше и выше. «Марфа» стала той ступенью, оказавшись на которой зодчий смог остановиться и оглядеться, но не по сторонам, а сверху вниз. Да, эта работа поставила его на голову выше не только сверстников, когдато учившихся вместе с ним в Академии художеств, но и многих учителей. Рядом с Щусевым никого не было, а многие остались позади в этом творческом соревновании и догнать его не имели сил, ни моральных, ни физических.
Даже знаменитый Федор Шехтель, влюбивший в себя завалившую его заказами сытую Москву, признал первенство Щусева, назвав обитель на Ордынке «удивительной». Уже одно это слово не щедрого на похвалы создателя Ярославского вокзала — «феномена русского модерна» — значило ох как много!
Именно с Шехтелем Щусеву предстояло побороться и в новом конкурсе — на грандиозный проект Казанского вокзала, объявленном в 1910 году правлением Акционерного общества Московско-Казанской железной дороги. Дорогой этой владел Николай Карлович фон Мекк. Онто и был главным заказчиком, вкусы которого играли первостепенную роль в выборе победителя закрытого конкурса «Ворота на восток», для участия в котором, помимо Щусева с Шехтелем, пригласили еще и малоизвестного петербуржца Е.Н. Фелейзена. Такой весьма скромный состав участников уже на первый взгляд вызывает вопрос: неужели в Российской империи было мало зодчих, проекты которых могут быть достойны внимания одного из богатейших людей страны?
Но фон Мекк имел такое право — самому устраивать конкурс и выбирать победителя. Будучи человеком посвоему уникальным, юристом по образованию, он блестяще освоил железнодорожное дело. Мог работать и стрелочником, и машинистом, и путейцем, правда, такой необходимости у него не было, поскольку отец его, Карл Федорович, потомок обрусевших немецких баронов, крупнейший капиталист и один из создателей системы путей сообщения России, оставил после своей смерти в 1876 году приличное состояние четырем сыновьям и супруге — небезызвестной Надежде Филаретовне фон Мекк.
Влияние Николая Карловича, во много раз увеличившего протяженность унаследованных от отца железных дорог, опутавшего ими всю империю, было посильнее, чем у иных царских министров. У него была своя империя, в которой он стал королем. Порой его называли теневым министром экономики. Ведь чем являются железные дороги для такой огромной страны, как Россия? Это кровеносные артерии, по которым непрерывно идет снабжение всеми необходимыми для предприятий ресурсами, перемещение огромного объема произведенной продукции.
Фон Мекк далеко смотрел, видел большие перспективы развития железных дорог в глубь России, на восток. А потому новый вокзал призван был по его замыслу олицетворять неразрывную связь Европы с Азией, подчеркивать весь длинный путь, от его начала — из древнейшей Первопрестольной — до конца, который был еще не виден и должен был быть обозначен в облике вокзала сочетанием самых различных стилей, символизирующих переплетение культур и эпох многовековой истории России.
Фон Мекк был богат не только деньгами, но и внутренней культурой, привитой ему матерью, а потому его выбор Щусева в качестве победителя конкурса выглядит весьма удачным и с высоты сегодняшних лет. К этому выбору была косвенно причастна и великая княгиня Елизавета Федоровна, благотворительными учреждениями которой заведовал племянник Николая Карловича, Владимир Владимирович, тоже фон Мекк, филантроп и коллекционер.
Но были и другие ходатаи. Так, М.В. Нестеров признавался, что это он назвал фон Мекку фамилию Щусева: «МосковскоКазанская железная дорога решила построить новый, многомиллионный вокзал. Стоявшие тогда во главе акционеров дороги фон Мекки по моей рекомендации остановили свой выбор на входившем в известность Щусеве. Он должен был сделать предварительный проект, представить его фон Меккам, а по утверждении назначался конкурс, на котором обеспечивалось первенство за Щусевым. Он же должен был быть и строителем вокзала. Таким образом, Алексею Викторовичу предоставлялась возможность не только создать себе крупное имя, но и обеспечить себя материально».
А уже в осенние дни 1911 года Нестеров напишет: «Здесь, в Москве, понемногу все оживает, начинают копошиться с выставками... Из больших художественных новостей самая любопытная — это на днях утвержденный к постройке вокзал Московско-Казанской ж.д. Щусева. Постройка громадная, целая площадь — стоимостью в 2 000 000 руб. Проект сделан на конкурс с Шехтелем и какимто еще немцем, которых Щусев “раскатал” основательно. Постройка <...> стиля русского, смешанного; вошли и старые соловецкие башни, и стиль Петра I, и Сумбекина башня в Казани, все это очень талантливо, остроумно переработано, вложено много красоты, чудесно применены мозаики — плоскости по белой Сумбекиной башне, забранные мозаикой малахитового цвета с золотым орнаментом вокруг громадных старинных курантов. Черепица, камень белый и вообще тон всей массы предпочтительно белоснежный. Москва “декадентская” и Москва современных “ампирчиков” очень освежится, получив такое вдохновенное сооружение, и оно будет прекрасным дополнением типа гражданской архитектуры к нашей церковке на Ордынке. Готов вокзал должен быть через три года. Теперь у Щусева, кроме Ордынки, два громадных заказа — Странноприимный дом (с церковью) в Италии (Бари) и новый вокзал в Москве, затем ряд меньших работ (церковь Харитоненко, кн. Щербатову — Школьный городок и т.д.) — в общем, миллиона на три, если не больше. И все это с “моей легкой руки”. Хотелось бы, чтобы он с годами перестал быть легкомысленным и самонадеянным, что часто ему вредит и делает его довольно несносным. Работы на Ордынке двигаются, пишу последнюю стену, — а потом все проходить придется, просматривать. Время наступает самое приятное, работается легко, весело».
Подружески пожурив Щусева за самоуверенность (что есть, то есть!), тем не менее Нестеров дал его работе высокую оценку: «Постройка будет украшением Москвы и могла бы быть не помехой и в Кремле Московском»! Что и говорить, услышать от признанного мастера такое дорого стоит.
Работа над проектом вокзала обещала немало творческих открытий и новаторских решений, ведь главного заказчика обуревали благородные помыслы превращения Московско-Казанской железной дороги в лучшую дорогу России, внешний облик которой должен быть оригинальным и своеобразным. И Казанский вокзал, и встречавшие пассажиров менее масштабные остановочные павильоны и станции, через которые проходила дорога, своим внешним видом призваны были создавать ощущение необъятности территории, по которой протянулась железнодорожная магистраль.
29 октября 1911 года Щусева утвердили главным архитектором строительства Казанского вокзала. Строительство же планировалось закончить к 1 ноября 1916 года. Да и сам Алексей Викторович, судя по его словам, не рассчитывал на то, что процесс возведения нового вокзала на Каланчевке затянется, отмерив на это максимум три года. А чтобы постоянно присутствовать на стройке вокзала, он переехал в Москву, поселившись вместе с семейством в Гагаринском переулке, в доме № 25, где расположилась и его мастерская.
Удивительной атмосферой были наполнены стены особняка, который обживала большая семья архитектора. Атмосфера для Щусева играла огромную роль. И мастерская нужна была соответствующая, большая, поскольку для работы над проектом требовалось немало помощников, причем талантливых. В мастерской трудились Н.Я. Тамонькин, А.В. Снигарев, И.А. Голосов, В.Д. Кокорин и многие другие, часть которых стали впоследствии известными зодчими благодаря пройденной ими «щусевской» школе.
Когда работа над проектом вокзала перешла в практическую стадию, Щусев выбрал для мастерской одно из помещений, оставшихся от старого вокзала. Современник, заглянувший в 1914 году «к Щусеву, в его огромную мастерскую при вокзале, где кипела работа и где рисовальщики за столами, как в большой лаборатории, заготовляли все чертежи», увидел, как, «словно оркестр музыкантов, каждый у своего пюпитра, исполняли свою партию под палочку дирижера-архитектора Щусева, — это было интересное зрелище. Сосредоточенная работа и большое увлечение создавали особую атмосферу, столь далеко уносившую от войны и лазаретной жизни, где тоже кипела работа».
Окунуться в творческую атмосферу однажды пришел Федор Иванович Шаляпин, для которого Щусев проектировал дачу в Крыму. От того памятного посещения осталась старая фотография, в центре которой стоит великий русский певец, окруженный сотрудниками мастерской во главе с самим мастером.
На начальном этапе часть сотрудников мастерской Щусев отправил по пути, когдато проторенному им, — в Казань (куда же ехать в первую очередь архитекторам Казанского вокзала?), а также в Ярославль, Ростов Великий, Рязань, Нижний Новгород, Астрахань и другие российские города, известные своей неповторимой архитектурой. География поездок красноречиво говорит о том, какие именно памятники зодчества должны были изучаться, чтобы послужить основой для нового грандиозного сооружения, должного украсить Москву и стать одним из ее символов.
Существовало и еще одно важнейшее обстоятельство: Казанский вокзал строился не на пустом месте и был отнюдь не первым в Москве. Уже встречали пассажиров Брестский (современный Белорусский), старый Брянский (нынче на его месте Киевский) и Курский вокзалы, в начале двадцатого века открылись Виндавский (мы его знаем как Рижский), Саратовский (теперешний Павелецкий) и Бутырский (нынешний Савеловский) вокзалы. А на Каланчевской площади стояли первый московский вокзал — Николаевский и Ярославский вокзал.
Так что Щусев должен был создать такой проект здания, который затмил бы собою все имеющиеся в Москве вокзалы. И надо сказать, это ему удалось, что станет понятным еще до окончания строительства. Так, Нестеров вспоминал: «Както Щусев пригласил смотреть большую модель Казанского вокзала, тогда как самое здание уже было выведено вчерне по верхний карниз так называемой Сумбекиной башни. Николаевский вокзал перестал казаться большим».
Иными словами, условия своеобразного творческого соревнования, в которое вступил Щусев, были очень серьезными. И участвовал в нем, помимо современного классика Федора Шехтеля, еще и основоположник русско-византийского стиля Константин Тон — зодчий давно ушедший, но незримо присутствовавший на Каланчевской площади со своим Николаевским вокзалом. Щусев бросил им вызов.
Ну а заказчик денег на достижение этой честолюбивой цели не жалел и аналогичную задачу ставил перед исполнителем. Щусев наконецто получил своего Медичи, пусть не во Флоренции, но в Москве. Князь и меценат Сергей Щербатов в этой связи писал:
«Все предприятие, помосковски широкое и талантливо задуманное, было для меня вообще как нельзя более по сердцу. Пахнуло эпохой Медичи, когда к общественному зданию (интересно было, что именно вокзал — современное общественное здание было решено обратить, при всей утилитарности подобного здания, в художественный памятник) привлекались художественные силы.
Постройка нового огромного вокзала по планам талантливого архитектора Щусева в Москве была тогда подлинным событием, и событием во всем художественном мире. Масштаб задания был огромный, и в этом почине, в самой идее было много талантливого, свежего, а на фоне исторических событий — чегото весьма отдохновительного и целебного. В этом предприятии и в неукоснительном проведении широкого плана с художественной идеей, в него вложенной, символизировалась твердая вера, что за Россию не страшно, что победа будет несомненная и что “матушка Москва” не дрогнет, не испугается и будет жить своей жизнью, как бы ни бушевала буря.
Щусев долго работал над проектом вокзаладворца, меняя его много раз. Задача была очень сложная, так как по идее заказчиков растянутое в длину огромное здание должно было символизировать собой единение России с Азией, то есть символизировать значение железнодорожного пути. Потому оно должно было вобрать в отдельных частях — и в архитектурной разработке, и во внутренней отделке стен — разные стили и притом представлять собой нечто цельное, некий синтез русско-азиатской России. Разработка отдельных стилей Щусеву удалась лучше, чем приведение в единство архитектурных масс, над которыми маячила башня азиатского стиля. В смысле разработки отдельных частей он проявил тонкий вкус, знание и большую находчивость. Как бы то ни было, можно смело утверждать, что такого художественного разрешения трудной проблемы вокзального здания нигде нет и не было, и потому этот вокзал в Москве явился событием и останется как подлинный памятник искусства в эпоху крайнего практицизма и утилитарности».
Создавая образ Казанского вокзала, которому предстояло стать яркой иллюстрацией неорусского стиля Щусева, зодчий принял за основу русское гражданское зодчество XVII века. Это был смелый шаг, поскольку в прежних проектах он ориентировался на богатое художественное наследство церковной архитектуры.
Алексей Викторович так объяснял свои предпочтения: «Что касается мотивов самой архитектуры, то для таковых выбрана эпоха XVII века. Эпоха наиболее гибкая по мотивам архитектуры, не имеющая к тому же церковного характера, столь сжившегося вообще с представлением о русском стиле. Фасад Казанского вокзала прорисован мною в хороших четких пропорциях и деталях. Мне удалось поймать дух настоящей русской архитектуры, без фальсификации, без приукрашивания».
При взгляде на Казанский вокзал Щусева порою возникает ощущение, что создан он не одним, а несколькими зодчими, причем сразу нескольких длительных исторических периодов. И в то же время комплекс зданий представляет собой целостный архитектурный ансамбль, в единстве которого трудно усомниться.
Многие искусствоведы и исследователи архитектуры отмечали, что на Каланчевской площади Щусеву удалось создать самый настоящий сказочный городок в русском стиле. А творческие достижения Щусева, воплотившиеся в проекте Казанского вокзала, позволили увидеть в его авторе и задатки незаурядного скульптора.
«Принято отмечать живописность общей композиции вокзальных зданий, подразумевая под термином “живописность” то прихотливое разнообразие форм, сочетающихся в общий комплекс, которое напоминает о композиции ныне не существующего Коломенского дворца и древнерусских монастырских комплексов. Такая живописность некоторыми исследователями считается одним из важнейших принципов русской национальной архитектуры. Если обратиться не к способу сочетания, а к самим частям, составляющим ансамбль Казанского вокзала, то это произведение скорее следовало бы назвать скульптурным, воспользовавшись термином из того же круга художественных категорий», — писал искусствовед Н.Соколов.
Отдельной похвалы заслужил и вокзальный ресторан, напоминающий трапезную палату московского боярина XVII века. Щусев крепко рассчитывал здесь на художников и ваятелей, произведения которых позволили бы выйти за пределы архитектурного пространства, умножив высоту зала, прорваться за границу свода здания. Но о художественном оформлении разговор был еще впереди.
Продолжение следует.
оригинал статьи: www.gudok.ru/newspaper/?ID=694375 <<---- к списку статей----<<
Мекка путей сообщения
История семьи фон Мекк тесно переплелась с историей российских магистралей
Первым инженером в семействе стал Карл Фёдорович фон Мекк, дальний потомок канцлера из Силезии Фридриха фон Мекка, окончивший в 1844 году Петербургский институт путей сообщения. В 23 года он поступил на службу начальником дистанции Московско-Варшавского шоссе. Работа там не отличалась разнообразием: ремонт дороги, скудные средства, бумажная рутина. Не было даже продвижений по службе. Карлу хотелось инженерной самостоятельности. Случай ему всё же представился. Началось строительство железных дорог, и в конце 1850-х годов к нему допустили частный капитал. Карл решил на свой страх и риск стать одним из соучредителей Общества Московско-Саратовской железной дороги, где секретарём был Павел фон Дервиз.
Карл быстро стал ключевой фигурой в компании. Благодаря его инициативе, инженерной сметке и предприимчивости первая очередь от Москвы до Коломны была построена очень быстро и открылась в 1862 году. Но на том деньги кончились. Общество обанкротили, а создав новое, избрали его директором фон Дервиза. Тот сделал фон Мекка главным подрядчиком следующей очереди – до Рязани. Она была построена за полтора года. Острословы тогда говаривали: «Магомет нашёл в Мекке свою погибель, а Дервиз – спасение».
Только по официальным данным, от строительства следующего отрезка до Козлова (ныне Мичуринска) подрядчик имел более 260 тыс. руб. дохода. А с 1871 года министр путей сообщения мог сам назначить концессионеров и выбрал именно фон Мекка, когда предстояло строить линию Лозовая – Симферополь…Карл Фёдорович внезапно умер в начале 1876 года. Но его дело подхватила вдова Надежда Филаретовна. Дочь смоленских дворян Фроловских оказалась жёстким и прагматичным человеком. 18 лет она успешно возглавляла дела семьи, сумела пресечь самые хитрые попытки лишить фон Мекков прав акционеров. Её имя в истории осталось ещё и благодаря мощной материальной поддержке, оказанной Петру Ильичу Чайковскому. В благодарность композитор посвятил Надежде фон Мекк Четвёртую симфонию.
 После смерти предпринимательницы в 1894 году её состояние было оценено в астрономическую по тем временам сумму – 12,5 млн руб. Но главное – она дожила до второго расцвета династии – времени, когда к делам пришёл один из её девяти детей – 33-летний Николай.
После смерти предпринимательницы в 1894 году её состояние было оценено в астрономическую по тем временам сумму – 12,5 млн руб. Но главное – она дожила до второго расцвета династии – времени, когда к делам пришёл один из её девяти детей – 33-летний Николай.
Уже в 1893 году дорога пришла в Казань из Рязани через Рузаевку. Дальше появляются линии Рузаевка – Сызрань, Рузаевка – Пенза, Тимирязево (сейчас Красный Узел) – Нижний Новгород, Инза – Симбирск.
К 1900 году капитал общества превысил 136,3 млн руб., акции приносили 32-процентный дивиденд.
Впрочем, линии Николая фон Мекка утратили то главное, что отличало работу его отца, – высокое качество. Лёгкие рельсы, деревянные мосты, холодные, наспех построенные тесовые здания железнодорожных служб сразу бросались в глаза.
Гласный городской Думы Казани Дмитрий Образцов писал в 1908 году: «Общество исходатайствовало право строить дорогу на неимоверно выгодных и облегчённых условиях. Благодаря дарованным такого рода льготам построена от Рязани до Казани препаскудная железная дорога, большею частью из старых материалов, оборудованная таким же
подвижным составом, так что товарные вагоны нередко по дряхлости ломаются…»
Вскоре фон Мекк собрал у себя лучших инженеров своего времени. Будущий великий архитектор Алексей Щусев создал для его линий типовые проекты станционных

зданий, разрабатывал облик вокзалов, например грандиозного и величественного Казанского вокзала в Москве. Кроме того, был построен большой паровозоремонтный завод в Муроме и рядом с ним – образцовый жилой район. Такой же посёлок для железнодорожников от фон Мекка – подмосковное Кратово.
В 1910-х годах начался «натиск на восток» – строительство широтного хода от Москвы через Уральские горы в Екатеринбург с огромными виадуками и тоннелями. Но из всех этих линий к началу Первой мировой войны открыть удалось меньше 400 вёрст – от Москвы до Арзамаса…
Фон Мекк не оставил своего детища и после революции. Он стал одним из инженеров-управленцев и в 20-х написал несколько книг о перспективах железнодорожного транспорта в стране. Его расстреляли 1929 году как участника «вредительской организации», созданной инженерами. Обвиняли его, в частности, в том, что он «усиленно охранял имущество» бывших частных железных дорог. Однажды фон Мекк вошёл в свой кабинет, где его уже ожидали большевики. Ему заявили: «С сегодняшнего дня вы уже не являетесь директором дороги, ею будет управлять ревком». Ему ничего не оставалось делать, как сказать: «Пожалуйста!» Так вспоминает события 1919 года член военно-революционного комитета Московско-Казанской железной дороги Николай Смирнов.
Нижний Новгород
Фото автора - Со времён строительства Московско-Казанской дороги сохранилось здание станции Кизнер
оригинал статьи: www.gudok.ru/newspaper/?ID=724150 <<---- к списку статей----<<
Железнодорожный король
Всю свою жизнь Николай фон Мекк посвятил служению стальным магистралям
В 1884 году не имевший инженерного образования, но знавший о железных дорогах немало, фон Мекк был избран кандидатом в члены правления дороги. Тонкости мастерства он познавал на практике, начав свою карьеру с самой низкой ступени – конторщика в депо на Николаевской дороге.
С его приходом к руководству в истории компании наступил новый период. Весь свой ум, энергию, профессионализм, практический опыт, чрезвычайную работоспособность и тщательность в подходе к каждому проекту фон Мекк направил на развитие вверенного ему хозяйства. Только за первые девять лет его управления протяжённость магистрали увеличилась с 233 до 2,1 тыс. верст.
Общество Московско-Казанской железной дороги развивалось довольно стремительно, что обеспечивало его акционерам высокий доход – в 1890-х годах дивиденд на акции достигал 32%. Впрочем, компания была обязана фон Мекку не только чрезвычайным расширением масштабов, но и коренным улучшением технической оснащённости предприятий. Так, Московско-Казанская железная дорога стала своего рода экспериментальной площадкой по разработке и испытанию новых типов паровозов.
События 1905 года и возросшая конкуренция заставили фон Мекка искать пути привлечения на предприятия рабочих и служащих, в том числе решая социальные проблемы. По его инициативе была создана потребительская кооперация, которая обеспечивала железнодорожников дешёвой мукой, растительным маслом, солью и крупой. В нескольких городах были открыты специальные торговые точки, а на линии Арзамас – Муром курсировал вагон-магазин, снабжавший железнодорожников необходимыми продуктами и товарами.
В Москве при станции Москва-сортировочная для рабочих были построены дешёвые многоквартирные дома. Мало того, в 32 верстах от столицы вблизи платформы Прозоровская общество приобрело приличный по размеру лесной участок, где был устроен посёлок с бульварами, мостовыми, трамвайными линиями, медицинскими, учебными учреждениями, библиотекой и прочими «удобствами». Жилые дома сдавались внаём служащим дороги за вполне приемлемую плату.
Жизнь «железнодорожного короля» круто изменила революция. Несмотря на то что в годы нэпа Николай Карлович занимался вопросами планирования, работал постоянным представителем в Госплане от Наркомата путей сообщения, издавал книги по истории и экономике железнодорожного транспорта, судьба его уже была предрешена. Ни лояльность к новой власти, ни сорокалетний опыт работы на благо России не смогли уберечь его от гибели. В 1928 году Николай Карлович фон Мекк был арестован и весной 1929 года расстрелян. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» его трагической судьбе посвятил следующие строки: «Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжело гружённых (поездов). Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён и расстрелян; он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же малое время спустя, новый нарком пути тов. Каганович распорядился пускать именно тяжело груженные составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили орден Ленина), то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков – они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта».
Фон Мекк показал и доказал, что при грамотном подходе частные железные дороги могут успешно развиваться. За пять лет работы в новом качестве ОАО «РЖД» также сумело доказать свою состоятельность и эффективность как коммерческая структура. Получив возможность распоряжаться собственными активами вне зависимости от государственного бюджета, компания не только смогла встать на инновационный путь развития, поддержать отраслевую науку, но и обеспечила подъём отечественного железнодорожного машиностроения, сотрудничая с производителями, заключая долгосрочные контакты и принимая участие в их бизнесе. Все это, как показывает опыт десятилетий, всегда становится залогом успеха.
Перечень опубликованных статей о фон Мекках
либо с ними связанные, со сылками на первоисточники, где возможно. Если Вы обладатель права на публикацию и возражаете против использования или упоминания ее нами, пожалуйста сообщите через страницу Контакты. Если Вы встретили статьи, не указанные на этой страничке, сообщите нам, пожалуйста. Заранее признательны!
СОВРЕМЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ ТЕЛЕ, ВИДЕО РАДИО ИНТЕРНЕТ САЙТЫ
Созидающая династия. Михаил Гавлин. 01.02.2000![]()
03.10.2011.Командор. Николай Карлович фон Мекк - один из первых российских автомобилистов. Иван Баранцев.
![]() 14.12.2011. Мекка путей сообщения. Николай Морохин.
14.12.2011. Мекка путей сообщения. Николай Морохин.
01.10.2008. Железнодорожный король. Наталья Алексеева.
18.01.2008. Московский железнодорожник. От Казанки - на восток России. Юлиан Толстов.
14.09.2007. Карл, который ничего не украл. Алексей Черниченко.
26.02.2003. Вся надежда на тех, кто хочет честно работать. Андрей Борисов.
12.10.2002. Семья предпринимателей фон Мекк. Юлиан Толстов.
![]() №2.2013. Классики. Кому нужен Чайковский. Ольга Катаргина.
№2.2013. Классики. Кому нужен Чайковский. Ольга Катаргина.
 "Рославльская правда": Памяти Надежды фон Мекк. Галина КУЗЬМИНА
"Рославльская правда": Памяти Надежды фон Мекк. Галина КУЗЬМИНА
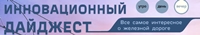 Инновационный дайджест РЖД. История/Династия железнодорожных королей фон Мекк.
Инновационный дайджест РЖД. История/Династия железнодорожных королей фон Мекк.
![]()
Алексей Щусев: зодчий всея Руси. Избранные главы. Александр Васькин. Журнал Москва. Окт 2014
![]() Союз души с душой родной… Нина ЧЕРЕПЕННИКОВА
Союз души с душой родной… Нина ЧЕРЕПЕННИКОВА
![]()
Она прожила чужую жизнь как свою. Татьяна Макагонова. 2.07.2005
Юлиан Толстов. Первопроходцы. Фон Мекк отец. Фон Мекк сын. 2 статьи.
Чайковский. Посвящение лучшему другу. Татьяна Слюсаренко. musicum.pro
Григорий Усыскин. Очерки истории российского туризма Первые горные клубы. Русское горное общество.
Александр Карлович фон Мекк и деятельность Русского горного общества (1900 - 1914) risk.ru
Юлиан Толстов. От Казанки - на восток России.
Русские гонки 29 сентября 1913. Олдтаймер. Ретроспектива. 09.10.2013
НИКОЛАЙ ФОН МЕКК: ПЕРВЫЕ СТО ДНЕЙ. Николай ЧЕРНОГОРЕЦ. 19.03.2012
Жуковский — «родственник» Еревана, город-сад, который нельзя потерять. REGNUM.RU
О переписке Чайковского и фон Мекк. Майя Шварцман. «Скрипичный ключ», 2012. belcanto.ru
МКЖД Москва-Арзамас. Вековой юбилей. Часть I
Мой дорогой, бесценный друг. Елена ЕРОФЕЕВА-ЛИТВИНСКАЯ. Блог журнала Работница.
Чайковскийонлайн.блогпост. О Надежде Филаретовне фон Мекк. 4 статьи
НАДЕЖДА МЕКК: ПРЕДПОЧИТАЮ ВДАЛИ ДУМАТЬ О ВАС... Всемирный Русский Народный Собор. 14.01.2014
Колея Карла фон Мекка. Деловой еженедельник Компания. 14.09.2009
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ГУСЛИЦКИЙ КРАЙ. Николай Черногорец. Ноябрь 2011 года
Юлиан Толстов. Узник бутырских казематов. Николай Карлович фон Мекк
Юлиан Толстов. Знаменитый московский долгострой. Политехнический музей. КФфМ
Юлиал Толстов. Ходынка. Первый аэродром. НКфМ
1) [03:29] Живые письма – П. И. Чайковский - Н. Ф. фон Мекк. 6. О вдохновении.mp3
3) [02:25]Н.Ф. фон Мекк-Лидия Матасова – Четвертая симфония (из письма к П.И.Чайковскому от 14.10.1879)
6) [09:30] радиозаметка Надежда Филаретовна фон Мекк - Пётр Ильич Чайковский
7) [01:33:52] Признание в любви – П.И. Чайковский и Н.Ф. фон Мекк. Переписка. Литературно-музыкальная композиция. ТК Культура, 2013
8) [01:33:52] Признание в любви.Чайковский-и-Мекк
про Мясницкую 44


